Стены Иерихона
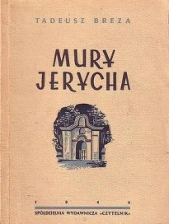
Стены Иерихона читать книгу онлайн
В книге "Стены Иерихона" действие происходит в канун второй мировой войны, автор показывает правящую верхушку буржуазной Польши 1926-1939 годов, дает точные социальные портреты представителей "санации", обнажает их эгоизм, нравственную нечистоплотность, интриги и личное соперничество, что привело Польшу к катастрофе 1939 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
- Вся трудность в том, - воскликнул он, - что не дадут сказать людям все.
- А что ты хочешь сказать? - ничуть не сомневаясь, что ничего нового, спросил Говорек.
- Когда убедишься, что можешь говорить откровенно, - объяснял Дылонг, и думаешь по-другому. Это как с женщиной: когда знаешь, что она позволит тебе все, ведешь себя с ней совсем иначе. А сейчас, когда я выступаю, меня постоянно что-то связывает. И шпик в зале, и отношение к какой-нибудь группе, и наша программа, в которой раз одно, в другой-другое. Я, кстати, больше всего люблю призывать к переменам. Это отвечает моему характеру, голос у меня подходящий, представление о переломе меня возбуждает. А тут все об ином духе и об ином духе. Значит, рукам надо ждать. Да, так! Перемена, только не в мире, а в нас самих. Великая смута, но все в голове. Чистая комедия, а вернее, опера. Идти, но стоять, торопиться, а не двигаться с места. Ах, мне хотелось бы заговорить во весь голос.
Движение не дает мне роли!
- Ибо ее не дает движению польская жизнь. Движение молодо, распалилась Кристина.
Дылонг прервал ее:
- Вы движение не оправдывайте, от меня его защищать не надо. Я все о нем знаю и понимаю. И вообще все, что к нему относится, для меня ясно как солнце. Знаете, у отца под Люблином есть мельница. Я уже какой-никакой инженер. Я прекрасно вижу, вот как сейчас вас перед собой, что мельнице нужно. Как нужно сделать, чтобы вода по-иному била в колесо.
Какие камни нарезать и какие скорости отладить. Только взгляну-и тотчас же скажу: это должно быть по-другому, это и это!
А говорю я так, потому что она моя. В чужой мельнице человек прежде всего видит неисправности, в своей-саму возможность ее исправить. Понимаете?
Говорек посерьезнел.
- Понимаю! - признался он. - И понимаю, откуда вся эта болтовня, из-за твоей мельницы!
Дылонг что-то забормотал. Он не умел перескакивать с одного на другое. Правда, он научился тому, как наилучшим образом высмеять шутку. Вроде бы задуматься и переждать. На это время слово отобрал у него Чатковский.
- Между нами и им, - заговорил он и показал на Дылонга, - есть разница: мы движение создали, а их создает движение, без нас не было бы организации, но без нее не было бы их.
- Э-э, - возмутился Дылонг, - пустой разговор! Взять вас, тебя и организацию, так все едино, кто кого породил. Ты ли ее, она ли тебя-значения не имеет. В любом случае ты от нее зависишь, а без нее-ничто. Вытащить у тебя из души организацию-и ты станешь точно таким же бедолагой, как тот, которого она не породила. От того, что ты крестил ее, свободы у тебя немного.
Стоило только Дылонгу перевести дух, вмешался Говорек.
- Разумеется, - закричал он, - я вовсе не утверждаю, что мы более свободны или меньше нуждаемся в организации, я говорю лишь, что мы помним кое-что о том времени, когда мы в организации не состояли, когда у нас была возможность вступить в другую или создать нашу, но на иной манер. И мы, старшие, и вы, кто пришел после нас спустя пять лет, - все мы накрепко связаны с ней. Мы вот, однако, в состоянии представить себе, как это бывает, когда нет движения. Вы и вообразить себе такого не можете. Для нас оно только-только родилось, для вас-было всегда. У нас в голове не укладывается, что оно существует, у вас-что так недолго.
Чатковский закричал, и казалось, он не просто шутил:
- Ну так вон нас! Как этих пожилых господ, что пробудили Польшу, и точка. Еще разок хвостом взмахнули, совершили государственный переворот и поставили крепкую власть', да так намучились, что нет у них сил извлекать из нее выгоду. Победа в Польше всегда была на одно лицо. Вся энергия на это уходила. И всегда она не средство, а лишь цель. Поляк мудр в убытке, а глуп в победе. Над чужим ли, над своим ли, ради интересов соседних держав или во внутренней борьбе. Ягелло после Грюнвальда, Собеский после Вены, Август Сильный, когда он сбросил Сапегов, и Пилсудский после майского переворота.
И обратился к Дылонгу:
- Видишь, зачем нужна мстительность! Без нее врага не уничтожишь, даже если побьешь его. Победа-не Страшный суд, она-миг превосходства. Сигнал, что теперь можно давить. А если не видишь этого, если нет этого в крови!
Дылонг покраснел. Кинуться бы так на кого-нибудь, поверженного, валяющегося у ног, он бы доказал, что понимает! Самая худшая хворь в общественной жизни-мягкотелость. Они от этой хвори народ вылечат!
- Вот этого-то и не чувствуют эндеки2 [2Так в Польше называли членов партии "Народова демокрация" ("Народная демократия")-политического течения правого и националистического толка, сформировавшегося на рубеже XIX-XX вв.]. Для них Пилсудский был чересчур жесткий, для нас-пресный.
- А прежде всего слишком стар для отца, - заметил Чатковский. - Санация бьыа дочерью пожилых родителей.
Говорек рассмеялся.
- А разве у нее вообще была мать? Пилсудский зачал санацию с пустотой. Потому, как он говорил, что в государстве было слишком много произвола. Стало быть, наткнись он на справедливость, все было бы в порядке. Проблема правящей элиты та же, что и домашней прислуги. Лишь бы не крала. Повод есть. Верно. Слишком серьезный для смены кабинета, слишком легковесный для свержения власти.
Вмешалась Кристина:
- И Пилсудский утверждал это всерьез! Мой отец слышал об этом от князя-регента.
Дылонг опустил голову, боясь расхохотаться. Вспомнил глупенький стишок: "У регента зад в цементе". Когда Кристина впервые пришла на собрание кружка, собиравшегося на Праге, которое проводил Дылонг, тут же выскочила с этим княземрегентом Любомирским. А в зале на девяносто процентов пролетариат. Кто-то тогда и рявкнул в рифму, вроде бы себе под нос, но так, что услышали почти все. Когда все кончилось, из вежливости Дылонг извинился за эту выходку перед Кристиной, которая, впрочем, не обиделась.
- Я думала, что они такие слова произносят чаще, - ответила она спокойно.
- Пилсудский, пожалуй, - продолжал рассуждать Говорек, - своего рода Иоанн Креститель. Первый набросок, который вот так, для себя, сделала натура перед тем, как создать гениального пророка. Ибо санация была какой-то черновой доктриной, в которой угадывались очертания абсолютной и героической власти! Идея эта Пилсудскому не давала покоя. Мы дадим ей полный ход.
- Только его героизм был романтический, а в нашем движении героическим будет реализм. Героизм непогрешимости видения.
- Вот и литература! - буркнул Дылонг.
- Что поделаешь, - возразил Чатковский. - У верхушки должен быть свой жаргон. У церкви-латынь, у великой революции-лексикон энциклопедистов, у социалистов-словарь Маркса. Литургия необходима, а где молитвы-там и высокий стиль. Как же без торжественных слов. Ты и сам, как поговоришь с нами, выходишь окрепшим. Оттого, что узнал что-то новое? Может быть! Но главное-потому, что принял участие в литании, задирая голову к тайнам нашего движения, к которым обращены эти отвлеченные, возвышенные, праздничные слова.
Дылонг понял одно-что Чатковский смотрит на организацию будто со стороны.
- Знаешь, - печально сказал он, - ты не настоящий сын движения, ты как бы усыновленный им. Я считаю это цинизмом-когда отходишь в сторонку, чтобы посмотреть, как идея, которой ты предан, выглядит в профиль.
Прага-правобережная часть Варшавы.
- Это зрелость, - возразил Говорек. - В твоем возрасте положено любить вслепую. Все равно-движение или женщину. А вырастешь, станешь как я. Преданным, но способным взглянуть издали.
Дылонг закричал:
- Никогда! Я не хочу быть зрелым по отношению к нашему движению. Никто не должен становиться таким. Подобным образом встают над движением. Вот ты как раз так и возносишься. У всех у вас это. Больше понимания, чем веры. То есть больше доброй воли, чем сильной. Из-за этого у нас погибали все движения, ибо, не успев обратиться в веру, человек принимался мудрствовать. Относился к организации как к какому-то механизму. Развинчивал, трогал колесики, пружинки, все обнюхивал. А ведь организация для того и существует, чтобы ее не понимать.























