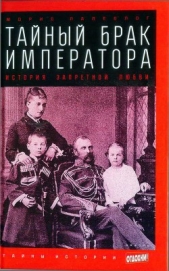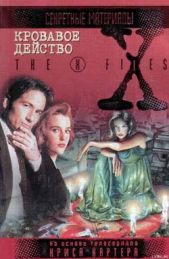Селинунт, или Покои императора
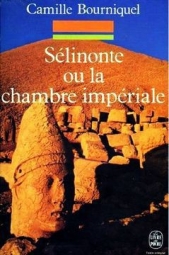
Селинунт, или Покои императора читать книгу онлайн
Кнульп, Рембо, а теперь Жеро - неприкаянный гений, скиталец, "проклятый поэт". В верхнем слое роман представляет из себя судьбу гения, который растрачивал свои таланты повсеместно, находясь в постоянном поиске своего истинного призвания. Это трагедия саморазрушения личности, постоянная тема произведений о неприкаянных художниках...
Селинунт удостоен в 1970 г. премии `Медичи`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как же люди, утверждающие, будто знали его прежде, могут приписывать ему столько разных обличий, столько различных образов? Почему они не видели его таким, когда слова вдруг покидали его, переставая его обжигать и гнать от нас сон?
Третья кровать по-прежнему не занята. И мне сказали, что она так и будет пустовать: состояние Жеро того требует.
Мы что, стали заразными — заразив друг друга? Может быть, над дверью нашей палаты, отныне постоянно открытой, повесили табличку, запрещающую сюда входить?
Прочие больные в обвисших халатах, охотничьих куртках красного цвета или в клетку, в старых дзюдоистских кимоно, оставшихся с хороших времен, прохаживаются по коридору, болтают перед телевизором или с неходячими приятелями, как, наверное, заведено во всех других отделениях, даже в неприемные часы. С тех пор как старый ангелочек с припудренной попкой (во избежание струпьев), который сбагривал мне свои сласти, получил обратно вставную челюсть, отбыл из больницы и вернулся к своим занятиям — rented cars, [40] тотализатор, выступления хора на юбилеях, — ни один их этих игривых или меланхоличных бабуинов не переступал нашего порога. Наше ли невнимание к их немочам пробудило недоверие к нам? Или же отсутствие записок, посещений, благодаря которым мы выглядели бы добрыми американцами, пусть даже эти письма и открытки нам присылало бы какое-нибудь общество, взявшееся приносить утешение больным, лишенным семейных уз? Они нами брезгуют, не интересуются нашей судьбой. Вокруг нас создалась тишина. Здесь действуют те же неясные причины, которые порождают в Америке сегрегацию по самым различным признакам: цвету кожи, наличию крайней плоти, положению в обществе. Чтобы они приняли нас, впустили в свой круг, нам, наверное, нужен был камень в уретре, полип в мочевом пузыре, водянка яичка, на худой конец песок в почках. Нам не получить пропуска в их клуб. Мы были отделены от них надежнее, чем если бы жили в другом корпусе. Нам удивительно повезло. Еще бы: не дай Бог, кто-нибудь из них передумает и возникнет в дверях: «Hello boys!» [41] Все повалят за ним. К счастью, они держались особняком. У нас разные органы были больны. Утренний обход хирурги совершают очень рано. Врачи и ассистенты. Эти не задают вопросов, взглянут мельком и уходят. Такое впечатление, будто они боятся нам помешать, нарушить наше уединение. Едва рассвело. Сначала очередь Жеро. Может быть, он нарочно прикидывается коматозником, словно его ремнями привязали к койке. О чем могли бы говорить больной, унесенный вихрем парфянской конницы, и детина, который его исполосовал? Лучший рысак на конюшне, ас нашей больницы. Худой и кряжистый, с волосатыми руками, напоминающий эмигранта с Кубы, прибывшего собрать денег для свержения режима Кастро, а в конце концов натянувшего голубой костюм хирурга из операционного блока. Ни один мускул не дрогнет в его лице. Ни одного лишнего слова. Вошел — и нет его.
«Ну, а Вы откуда?» — спрашивает меня по прибытии мой хирург, более разговорчивый, более внимательный, чем тот, к так называемой «психологии больного». Из Арканзаса, Юты, Вайоминга… — каждый раз я отвечаю по-другому. Он притворяется, будто этого не замечает. «Молодцы ребята!» — говорит он невозмутимо. Кто я для него? Всего-навсего малый, которого он удачно прооперировал и у которого на руке пластмассовый браслет с номером. «Молодцы ребята!» На какое-то время мы расплываемся в условности оптимизма янки, обмениваясь широкой улыбкой гражданского здоровья, не вызванной никаким внутренним убеждением, похожей на рукопожатия, которыми обмениваются в Европе. Ассистент готовится записать себе в блокнот назначение, но врач уже в коридоре.
Широкий лоскут серого неба в металлической раме окна, Угол подсобки. Залитая битумом терраса с антеннами, лесенками, большими вентиляционными трубами… верхняя палуба корабля, который переделали под роддом. А за Гейтс-Сёркл и Парк-Авеню — огромный куб из белых кирпичей: здание школы, увенчанное гигантской клеткой со спортивными снарядами и волейбольной сеткой; клеткой, которая во время коротких перемен наполняется движением и криками и висит тогда в небе, словно большой вольер с детьми, одетыми в одинаковые свитеры с эмблемой на спине.
Город, если он существует, дает о себе знать разными шумами: ревом двигателя, завыванием сирены от Лассаль-Парка до Чектоваги, сигналами аварийных и пожарных машин, хриплыми или пронзительными гудками свадебного кортежа, проезжающего поблизости. Его отголоски приглушены расстоянием, снегом, продавленным цепями, испачканным на переходах и вдоль шоссе, — старым изгвазданным паласом, который пора сменить.
А в промежутках между этими редкими вторжениями — мертвая тишина, неуклюжее нагромождение пейзажа, края которого окончательно потонули в тумане.
Я возненавидел эти утра, лицемерную медленность неделимых часов. Жеро молчит. А я теряю нить. Прошлое остается в его руках, но когда их озаряет дневной свет, они безжизненно падают, выпуская канву повествования.
Иногда я встаю с кровати, делаю несколько шагов и снова ложусь. Я мог бы попытаться уснуть, взять свое после бессонной ночи — этой и всех предыдущих, но что-то заставляет меня лежать вот так, опершись локтем на подушку, подобно гостям на этрусском пиру, не сводящим взгляда с тяжелых дверей, в любой момент готовых захлопнуться.
Он не притронулся к подносу, не соблазнившись ни кукурузными хлопьями, ни омлетом. Порой меня подмывает спросить у Эдны или другой медсестры, нормально ли это: его отказ от пищи, астения… замедленное скольжение в кратер, где еще кипит лава.
Где он выучился спать таким образом? Возможно, только теперь, с опозданием на несколько часов, начинают наконец действовать транквилизаторы?
И так до вечера.
— Опять! — восклицает она. — My God, вы же ему не нянька!.. Oh boy! Oh boy!.. [42] Еще ни разу не видела, чтобы кто-нибудь так трепыхался ради другого. Оставьте его, пусть отдыхает. Эдна больше ничего не скажет, строго соблюдая указания, которые сама себе дала. Однако она и не уходит, крутится здесь, взбивает подушку, поддергивает подстилку под простыней, меняет лед и угол наклона изголовья. Она говорит, что отдыхает, задерживаясь здесь под конец рабочего дня.
— Пусть проветрится перед сном… Потом закроете, если станет холодно.
Я смотрю, как она надевает очки, висящие на цепочке у нее на шее, и, сверившись со списком назначений для всего отделения, выбирает на подносе, с которым она ходит из палаты в палату, капсулы и ампулы и кладет на столик между нашими кроватями.
— Укол ему придут делать часов в одиннадцать. Хоть бы дал вам поспать.
Три ха-ха! Мои ночи в больнице! Сначала старик, теперь вот Жеро. Если б ты знала, солнышко, какое действие на него оказывают все ваши дурацкие успокоительные! Запускают ракету. Но лишь я один вижу ее взлет, слежу за ее траекторией и обращением вокруг Земли.
Эдна проводит пальцем по корешкам книг в изголовье Жеро и морщится. «Панегирик», варварское слово.
— Лучше б что-нибудь другое читал. Да и вам бы не мешало иметь маленький приемничек. Прижали бы его к уху, все не так одиноко. Он-то не из болтливых, — кивнула она на моего соседа, — не в пример прежнему. Сколько ж старик получал писем, подарков! А цветов!.. Я их каждый вечер домой приносила, так уж мой муж невесть что подумал: стал их выкидывать. Представляете? В нашем-то отделении… У них, болезных, другие заботы, где уж им на девушек пялиться!
Она перелистала одну из книг: «Это что такое?» «Латынь», — ответил я. А, сказала она и тотчас положила книгу на место. That dialect of the Roman catholic church! [43] Наверное, она решила, что это молитвенник. — Разве это может сравниться с музыкой. Вам нравится Герб Альберт? Я от него без ума. This guy I love — эта песня так на меня действует, когда я слышу ее вечером в машине по дороге домой. Как будто я танцую и чувствую его дыхание на своей шее. Просто колдовство какое-то: я не вижу светофоров, других машин. Приходится останавливаться на обочине и ждать, пока он допоет. Доведет меня до беды этот Герб!