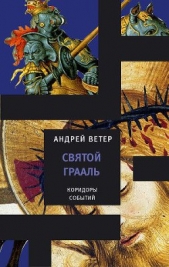Моя вина

Моя вина читать книгу онлайн
«Моя вина» — это роман о годах оккупации Норвегии гитлеровской Германией, о норвежском движении Сопротивления. Роман вышел в 1947 г., став одним из первых произведений в норвежской литературе, посвящённым оккупации. Самым интересным в романе является то, что остро и прямо ставится вопрос: как случилось, что те или иные норвежцы стали предателями и фашистами? В какой степени каждый человек несет за это ответственность? Как глубоко проник в людей фашизм?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда спросили, кто желает выступить, Ханс Берг поднялся и голосом, пожалуй, еще более резким, чем всегда, сказал:
— Неужели профессору никогда не приходило в голову, что, для того чтоб предпринять то, о чем все время думает профессор, как правило, требуются двое, по одному от каждого пола?
Послышались возгласы: "Фи! Вывести его!" Ханс Берг, ликуя, сел.
— Ты спятил! — зашептал я. — Забыл, что через два месяца нам держать у него экзамен? Он же никогда такого не прощает! Все, что осталось от его хорошей головы — безупречная память, так что он никогда не забывает отомстить.
— Еще бы, я все помню, — восхищенно шепнул он мне в ответ. — Но хорошо я его позлил! Теперь не уснет! Знаю я, какой он мстительный. Потому я это и сделал. Если он настолько унизится, чтоб меня срезать, — так ему и надо.
Профессор унизился настолько.
Я представляю себе, что, если кому-нибудь попадутся на глаза эти строчки, может возникнуть недоуменье: ну ладно, предположим, этот человек действительно являл собой загадку. Но загадка еще более странная: как приличные люди могли иметь с ним дело?
И уж по одному тому, что возникнет такое недоумение, мне ясно, что я дал неверный его портрет. Да иначе и не могло получиться — ведь я сгромоздил в одну кучу все странное, все выламывающееся из привычных рамок, все отступающее от принятого, все ложное, неправильное, все кидающееся в глаза… А невозможно оспаривать, что девушки в него влюблялись. И нельзя отрицать, что с ним часто бывало приятно, что многие подпадали под его своеобразное обаяние. Отчасти потому, что у него отлично работала голова. Вздор, ложь, иезуитство, все разновидности пропаганды отскакивали от него либо лопались в соприкосновении с ним, словно мыльные пузыри.
Отчасти секрет крылся в том, что в нем сохранилось так много первозданного, дикарского. Среди природы — неважно какой и в какую погоду — он сразу делался счастлив, ровен и — да! — почти дружелюбен. И никто тогда не мог с ним сравниться в способности создавать вокруг себя атмосферу уюта, радости, покоя.
Я ищу и ищу: что же привело его туда, где он сейчас?
Я ведь так хорошо его знаю — по-моему, я хорошо его знаю, — и я думаю: неподходящее для него там место. Ну, да, да, я понимаю, что еще через двадцать пять лет мы на многое взглянем по-иному. Но живем-то мы сегодня, теперь. И он тоже… Нет. Не могу понять. Но я вспоминаю. Вспоминаю все подряд.
В первые годы студенчества мы были бедны, как церковные крысы. Положение у нас было схожее — у него и у меня. Отцы, как им это ни было трудно, довели нас до окончания школы. А если мы хотим учиться дальше — должны рассчитывать только на себя. И мы рассчитывали на себя. Что до меня, я пошел в ту самую школу, где учился, и справился о частных уроках. Директор был ко мне хорош, он посылал мне учеников. Иногда дела шли прекрасно, потом наступала голодовка. Тогда приходилось затягивать ремень и сидеть у себя в темной каморе, жуя черный сухарь.
Потом, впрочем, мне удалось на два года получить постоянные уроки в школе. Тогда была нужда в учителях.
Ханс Берг мыкался примерно так же, как и я. Только ему, пожалуй, приходилось еще туже. Подводил характер. Думаю, что ремень он затягивал гораздо чаще, чем я. Но он о таких вещах никогда не упоминал.
Потом он завел себе приятельницу. Она была старая. Да, так мне тогда казалось. Теперь-то я понимаю, что ей было, вероятно, лет сорок. Она была пышная блондинка — ее просто распирало от перезрелой женственности. Он познакомился с ней, давая домашние уроки ее великовозрастному сыну.
Несколько раз я заставал ее у него. Она не смущалась. Она хохотала. В том, зачем она приходила к нему, сомнений быть не могло. Она хохотала, показывая белые зубы между красных губ, — старая, наглая дама. Я считал ее бесстыдницей.
Он тогда поменял жилье — снял получше, с отдельным входом.
Та дама приносила ему поесть. Мед, консервы, а раз как-то я даже видел кастрюлю с жарким. Наверное, она приносила снедь в корзине. Вероятно, она готовила у него и вместе с ним ела. Ну и иногда кое-что ему еще оставалось…
Я считал, что это стыд и позор. Просто позор. Я видел в нем сходство с непонятными, мерзкими существами мужского пола, которых я иногда видел в своем переулке, — сутенерами, живущими за счет своих подружек.
Как-то я ему это выложил.
Я хорошо понимал, что это, возможно, будет наш последний разговор. Что ж, пускай последний.
Но он принял все совершенно не так, как я ожидал.
Он сидел молча, с сосредоточенным взглядом, и на него больно было смотреть — так ясно было, что ему скверно. Потом он сказал хриплым, сдавленным, своим задыхающимся голосом и не глядя на меня:
— Тому, кто знает, что он свинья, и вести себя надо по-свински.
Больше мы об этом не говорили. Не знаю, долго ли она еще к нему таскалась.
Я раздумывал над той фразой снова и снова. Годы шли, а она всплывала опять, в разных формах.
Раз я свинья, так и не мешайте мне быть свиньею….
Многим полнились эти годы.
Горячий бред юности. Тело, алчущее своего. И бедность. И одиночество. И убежденье, которое вколачивали, вбивали нам в головы, пели, проповедовали, бубнили: это грязь, это. свинство.
И иногда думалось — что ж, пусть свинство! Но это нужно. А она — да, она дурна собой, груба, разнузданна и общедоступна. И совершалось, то, что в самом деле было свинством.
Я думаю, Хансу Бергу приходилось тяжелей, чем многим из нас. Он был горячее многих, и у него все проявлялось сильней. Протест, борьба — и больнее было падение.
Раз это свинство — что ж, пускай. Но уж пускай настоящее свинство. Грубое, тошное, гадкое. Потому что, если уж идешь на такое, да еще хочешь такого, надо заодно вываляться в этом и стать таким.
— Вот черт! Ну и баба мне попалась! — сказал он однажды.
Потом я понял, что речь шла о той самой немолодой даме, но это было еще до того, как я ее увидел, и он не знал, что я ее увижу.
— Я обругал ее и сказал, что она паршивая потаскуха, а она в слезы. И снова заявляется. "Сделай меня своей потаскухой, — говорит. — Делай со мной все, что делаешь с потаскухами! Умоляю!" О! — И он поднял оба кулака к небу протестующе и бессильно. — О! Жизнь — это свинарник.
Это было ранней весной 1921 года — именно в ту весну он влюбился в одну девушку.
Иногда я думаю:
что, если б мы жили в ином мире, в иной стране, в иное время — в такой стране и в такое время, где то, что естественно, называют естественным, красивое называют красивым, безобразное — безобразным и старшие не стараются изо всех сил забыть, что такое юность.
Мысль невозможная.
Был у Ханса Берга приятель, тоже приезжий, из какого-то горного местечка. Вид у него был такой, словно он только что вышел из горных недр. Город не оставлял на нем отметин. Он словно сложен был из гранита и старой скрюченной горной сосны, обтесанной топором.
Я познакомился с ним, и он пришелся мне по душе. От него веяло свежестью, он был умен, и кроме того, когда я с ним общался, я ощущал себя немыслимо светским.
Однажды в воскресенье, к вечеру, мы встретились в нашем обычном кафе, все трое.
Ханс Берг всегда бывал по воскресеньям особенно угрюм и молчалив. На этот раз его друг тоже был необыкновенно мрачен и раздражителен. Из него просто слова вытянуть не удавалось. В конце концов удивился даже Ханс Берг, как ни был он погружен в свои собственные раздумья. Он сказал:
— Что с тобой, Белый? Скучаешь по горам? Мы прозвали его Белый. Имя его было Троан. И поведал нам Белый:
— Я переезжаю.
— Ну и что?
Пауза. И далее поведал нам Белый:
— Переезжаю из хорошей комнаты.
— Ну? Так что же?
— А въезжаю в плохую.
— Чего ж тогда переезжать?
И мы услышали всю историю. Дело было в прошлое воскресенье. Белому удивительно повезло с последней комнатой. И большая-то она была и уютная, хозяйка тоже была хорошая, проворная и предупредительная. Чистота поддерживалась необыкновенная; с самого начала хозяйка спросила, когда он будет приходить по вечерам, и каждый вечер готовила к его приходу горячий ужин. А иногда — не так уж редко — приносила ему в комнату кофе с булочками, хоть уговора про это не было. Никогда еще не снимал он жилья так удачно и никогда не просиживал он столько времени дома с тех пор, как приехал в город. Бывало, никуда не пойдет, нежится себе и слушает, как хозяйка напевает в соседней комнате.