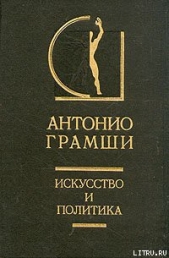Счастье

Счастье читать книгу онлайн
В свои 33 года Соня написала много рассказов, которые тянут на книгу, наконец собранную и изданную. Соня пишет о «дне», что для русской литературы, не ново. Новое, скорее, в том, что «дно» для Купряшиной в нас самих, и оно-то бездонно. Соня выворачивает наизнанку интеллигентные представления о моральных ценностях не ради эпатажного наезда на читателя, а потому, что сложившиеся стереотипы ей кажутся мерзкой фальшью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слава богу, жизнь продолжается. Меня связали и бросили на четвертый барак мордой в сено, отчего я расчихалась, выстреливая соплями в сокамерников. Сокамерники вытерлись и стали подползать ко мне, гремя кандалами. Их было человека четыре, и все с грудными детьми, завернутыми в разноцветные лохмотья: Дрюнчик, Ленусик, Ольгунчик и Вован, неизвестно как обзаведшийся наконец желанной дочерью с приплюснутым носом. Все они были комиссарами Красной Армии. Вован и Дрюнчик были к тому же запакованы в гипс по самые уши. Они тут же наладили меня таскать за ними «утки» и менять детям памперсы, — ну, как обычно.
— Послушайте, товарищи, вы хотите жить? — спросила я.
— А что, у вас есть другие предложения?
— Так точно, ёканый бабарь! Кинемся на запретку — авось, кто и выдюжит.
— Зачем вы говорите это… господи… Это бесполезно… Я все подсчитал… После пятой рюмки настроение резко повышается и не хочется не только кидаться куда-то, но и вообще двигаться.
— Боже, как мне надоела эта Финляндия, — сказала я. — Я уже соскучилась по своему рваному дивану. Меня сковала дежавёвость этой жизни. Вот приходишь в горящую избушку в синей густоте, думаешь — вот какой красивый финский пейзаж! — а он такой же, как в Удельном, а внутри еще и полицаев напихано. Нет же ни в чем разницы. Ну есть Юг, но там стреляют. Напечешь бураков на печке, обзаведешься двойным подбородком, как Пресли, дыбанешь себе что-нибудь между ног — вот и все развлечения. Тоска ебучая!
Призывно гремели цепи.
Набивая рот хлебом, я занялась гимнастикой.
— Что ж ты — сначала жрать в три горла, а потом ногами махать… — усмехнулся Вован, намешивая дочери водки со снегом и соком во рту.
Девочка заплакала хриплым басом.
— Это будет новая Эдит Пиаф, — умиленно сказал романтический Дрюнчик.
— Уж не знаю, какая она будет Пиаф, но блядь она будет знаменитая, — сказала я.
— Не суди всех по себе, — ответил Вован, перестав заикаться от злости и треснув меня гипсовой рукой по каске. Раздался оглушительный звон. Мне показалось, что в церкви началась служба.
— Так ить я который год в глухой завязке по причине деградации личности. Скажи, Денусь, мы в завязке с тобой?
— А то, — коротко отнеслась ко мне Ленуся, которая нудно обсуждала с Ольгунчиком рецепты борща.
— Ибо нельзя ебтись, если не найдешь в клиенте хоть крупицу положительного зерна. А если в нажоре в тебе доминирует агрессия — какая ж ебля тут!
— А то, — вякнула Ленуся. — Переходи на сухие вина.
Горели вдали подслеповатые окна.
Сидя в засморканном сыром сене, крепко прижавшись друг к другу ребристыми, как стиральные доски, иссеченными спинами и выставив по ветру животы, ибо некоторые из нас снова забеременели, мы встречали серо-лимонный финский рассвет песнями, которые только теперь стали нам по-настоящему понятны и дороги:
При помощи английской булавки и баночки чернил мы сделали друг другу татуировки «Финляндия — любовь моя», исполненные горькой надсмешки.
В десять утра, нашвыряв каждому в пригоршню по черпаку картовной вылупки, нас вели допрашивать.
— Ви… Любофф Полищу-у-ук? С эттими четвырмя?
— Одна.
— В Раквэрэ?
— В Пидэрэ.
— Лэттом?
— Зимой.
— Лет сколько?
— Двадцать пять.
— Нэ врать!
— Двадцать шесть.
— Нэ врать!
— Двадцать семь.
— Нэ врать!
— Двадцать восемь.
— Нэ врать!
— С половиной.
— Продолжать!
— Каждый день в пять часов утра, трясясь от обжорства и нежности, я читала «Жажду жизни»…
— А-а, ферфлюхт пёйдала!
Полицай вышиб меня из памяти и стал каким-то очень близким.
— Продолжайтт!
— А дальше — сами понимаете: слово за слово, хуем по столу, баранки в чай, пальцы веером, — бормотала я, с ужасом понимая, что проговорилась.
Меня бросили обратно в барак и дали противозачаточных таблеток, чтобы я не родила в четвертый раз.
— Все пропало, товарищи, — прошептала я разросшимися губами. — Колонули меня до нечаянности странно. Надо перепрятать баранки и выбросить веера.
Ленусик с Ольгунчиком лизали мои раны мокрыми языками.
— Ладно, поползли отсюда в Москву к чертовой бабушке. А то мой аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику, — сказала я, чувствуя тоскливую неприязнь ко всем четверым.
— Нет-нет, друзья! Давайте прежде вспомним, кто как кушал на родине, а потом уже поползем! — закричал Дрюнчик.
— Ой! Я, бывало, как встану, — зашелестела Ольгунчик, — в ванну не иду, а с вечера припасу кусок трусятины и жарю его, жарю, жарю, пока не сжарится. Ну, потом, ясный хуй: молочка сгущеного с цикорием, драчены со сметанкой, селедочки и пряников мятных…
— Что это еще за трусятины дроченые… — пробормотал Вова, качая зыбку тем, что у него было не в гипсе. — А я, дай бог памяти, в пять утра как водки въебу — «Монастырская изба» называется, с виноградным листом, — она мягенькая, что твое суфле… А к ей огурца… И сочку томатного с сольцой. А то «Кровавую Мэри» запиндюрю — двести на двести, и опять в койку, пока не позвонят из школы…
— А я люблю поджарить ицо и кинуть его с балкона, пока горячее, кому-нибудь на лысину, — сказал неизвестно кто. — Прям вместе со сковородой…
— Ну и дура вы были, старший лейтенант, как я погляжу…
— А вы блядь поганая…
— А вы старый пердун, Афанасий Тихонович.
— Мне ишшо тольки 23 года…
— Ну и спохабили ж тебе рожу, малый…
Но тут открылась дверь и нас пришли убивать.
— А ну, братцы, бежим! — предложила я своей четверке.
— Но как?!
— Ногами!
И мы резво кинулись бежать в посольство, с трудом переставляя подернутые гангреной босые ноги.
Больше месяца мы ползли по девственным лесам, слушая свирепое природное чирканье кустов, ковырялись в болоте, обрастали бородами. Когда мы приехали в Москву, у Вована борода доходила до колен, у Дрюнчика до пупка, а у нас с Ленусиком курчавились полнокровные колечки, темные и русые соответственно. Страшные седые космы и высосанные висячие груди обрамляли наши чугунные лица. Ольгунчик почему-то наоборот стала лысеть. Гармональный дисбаланс делал свое дело, поскольку мы стали крепкими боевыми друзьями и совокупляться не могли. У нас уже не могло быть детей, да нам больше и не надо было. Раны зажили давно, только шрамы доброй памятью остались, как говорится в песне.
Теперь мы часто видимся в Доме слепых, радостно ощупываем друг друга и вспоминаем о том странном времени, когда мы ни с того ни с сего перешли вдруг финскую границу.
сурковьи дела
Лестницы Буало, керамические хвосты сурков, последний день. Тот, кто предлагал помочиться с Эвереста, давно угнан.
Анан, золотистый Кролик, вернее так: Ан-Ан: пищерный пищик.
Хвост-Чешуя — имя бобра, idem: бобрик обледенелый; Nota bene: бобровый еж укутал воротник, с куском из сыра шел, залетный, древесный вепрь, натруженный старик с наивностью понятной, обник, приятный… Только лишь ШУБА ЕГО была ворсиста. Он выводил потомство. Что, щегол? Пытаешься достать до ручки? Право, птица… Поднимая натруженные вытертые брови и с трудом говоря: созерцание.
Семь укушенных сурком. Следств. эксперимент.
Вот стоят они в ряд в шапках из бобра-истца, смотрят в лица. Входит Сурок.
— Пожалуйста, посмотрите, кто вас ловил.
Рукою-окороком, рукою-треугольником, то есть летучим треуглом:
— ОН!
Шайка ползет вниз.
Вепрь Злой:
— Я очень люблю октябрь, когда золотые листья падают толпами, не торопясь, а пернатые хищники падают с деревьев, объевшись подмороженной рыбины. Их живот перетягивает. Раньше, когда я жил в глиняном доме и каждое утро доставал с полки по куску масляной лепешки, все было у меня хорошо. Я смотрел много добротного кина, а теперь настало время стронгиться. Я сильно вспоминаю то время, когда бронза листьев и рук тускнеет под напором непереносимой гряды вступления. Когда увертюра горшков и голосов обретает объем и хочется сидеть в этом объеме вечно. Теперь, часто бывая в положении, разговаривая с Обнорским и Аннами, мне хотелось бы вспомнить глиняный лист, упоенное безделие и никогда не употреблять плохих слов. В своем последнем плохом Слове мне хотелось бы затронуть его. Да так затронуть, чтобы понять: