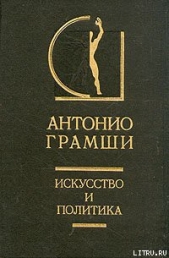Счастье

Счастье читать книгу онлайн
В свои 33 года Соня написала много рассказов, которые тянут на книгу, наконец собранную и изданную. Соня пишет о «дне», что для русской литературы, не ново. Новое, скорее, в том, что «дно» для Купряшиной в нас самих, и оно-то бездонно. Соня выворачивает наизнанку интеллигентные представления о моральных ценностях не ради эпатажного наезда на читателя, а потому, что сложившиеся стереотипы ей кажутся мерзкой фальшью.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На литературном фронте картина была обратной. Не видя в критике близкого ему масштаба, он перегибал палку, не щадил ни стариков, ни молодых, распоясывался, выходил за рамки литературоведческой и общечеловеческой этики, — в том числе и с целью найти себе достойного конкурента ли, оппонента, единомышленника — неважно; человека, который видит его наиболее целостно и способен принять вызов или погрустить вместе с ним об утраченной гармонии мира. Среди живущих таких не оказывалось. Он звал поднять литературную планку, звал на поединок, будил, как декабрист, метался, тыкал палкой, пытаясь расшевелить — давайте, милые, не расслабляйтесь! — но из будки раздавалось сонное рычание. — Зачем вы так плохо пишите? — по-башмачкенски спрашивал он, устало садясь рядом с цепью и миской. В будке чавкали и ворочались во сне. «Он донельзя чувствовал пародийность мира по отношению к какой-то норме», — как сказал Константин Вагинов.
Он всю жизнь искал родную душу, и вот вроде бы нашел в очередной раз — текстуально, а эта родная душа такое ему залепила — что ни встать, ни сесть, потому что разрыв между человеком и текстом гораздо значительнее, чем принято думать, да и сходятся чаще всего противоположности: «похожесть» в литературе — не показатель человеческой совместимости.
И такая ли уж это смелость (думала я о Гостье) — высмеять человека, дать понять, что ты его раскусил и выплюнул? Или это молодой наглеж, или затянувшийся бунт, который Емкий Буддист считал непременным атрибутом «молодого стиля»? Скорее, это этап развития личности, который для многих становится последним.
Однако, кое-в-чем Гостья была права. Емкий Буддист любил стерв, как всякий порядочный садомазохист, и менял жен нечасто, но неудачно. Славянскую инородку с черепашьим лицом, душой и шеей, доведенную им до плясок в голом отощавшем виде и черных очках, он поменял на молодку динозаврического вида с головенкой микроцефала и умением облекать свою агрессию в формы еще более презентабельные, чем сам Буддист, чем, собственно, ему и глянулась… Потом ее — на еще кого-то… Что толку. Главное, чтоб ему было хорошо. Гостья же поймала за хвостик емко-буддистскую слабину, очень крепко поймала, за что и была наказана нелестным отзывом вызверившегося на ней доминантного составителя.
— Ты должна будешь сильно измениться, — говорила я Гостье словами Емкого Буддиста. — Ты должна научиться видеть больше планов и слышать не только себя. В сочетании с твоим умом это может дать блестящие результаты. Нельзя уходить в мелочную бабскую стервозность, надо перестать сводить счеты, выйти из эмоциональной комы, которая так рано тебя засосала. Но как я могу советовать тебе это, если мое разбитое корыто в сотни раз фрагментарнее твоего, а дискретность и деконцентрация мышления достигла клинических размеров? И все же, Гостья, надо работать чисто, без осечек, чтобы не дать Буддисту под прикрытием феминизма приложить нас всех, как мелочных сук и теплых авторских тварей, амортизировав все это «хорошим литературным раскладом». Надо работать с огоньком, не делая из обиды сюжета, и тогда мы реабилитируем и наших мужиков, которых и вовсе смешал с говном этот эмансипэ от чувств национальной и половой принадлежности, и тогда не нас будет приятно иметь в антологии или на книжной полке, а мы будем иметь, как хотим, комфортолюбивых читателей и пристрастных критиков.
интервью
— А за что сидела-то? — интимно спросила меня простая, как три копейки, переводчица.
— За изнасилование, за что же еще, — ответила я и притянула ее за поясок к себе. Ноги у нее разъехались, и я просунула туда свою.
…Открывается, бывало, кормушка — «Мамки, на выход…» Идем по снегу — хрусь-хрусь. Вывеску «Дом ребенка» замело, а плакат «Дети — наше будущее» виден еще маленько. Наши орут. Вынешь грудь со звездою вокруг соска, он ее схватит, а ты думаешь: «Как же я его кормить буду вмазанная? Ну ничего: бог не выдаст, свинья не съест.» А он давай от винта из одеяла выпрыгивать, маску рвет на мне — умора…
После этого переводчица перешла к своим прямым обязанностям и с глупыми вопросами больше не лезла.
На вопрос, вхожу ли я в горящую избу, мне пришлось ответить односложно: — Пытаюсь. — И что? — ответил он. Это был западногерманский журналист, высоко взращенный на питательных вещах, стеклоглазый, обернутый флагом, совершающий неприличные, с точки зрения российского человека, движения, однако, в не очень чищенных ботинках, некурящий, непьющий, создатель брошюр немецкого коммунизма, пытающийся понять русскую эротическую душу. Душа как раз была очень больна. Только что вынув в туалете пальцами гнилой кровоточащий зуб, а потом клок волос от плохого питания, она вспоминала путанические экзерсисы в этом отеле, угол ментовской комнаты, забрызганный кровью, и много всякого такого, отчего хотелось плакать. Надо было залить рану водкой.
Он спросил меня, почему я так скованно сижу, если я была по этому делу.
— Потому и скованно, — I reply.
— Хи-хи! — сказал он и снова показал руками. — А что вас возбуждает?
— Да все. Это специфика русского человека.
— Вас возбуждает этот флаг?
— Нет.
— Why?
— Потому что он чистый.
Щас бы отринуть противоречия, забежать в буфет, схватить там коньяк с шоколадом и лечь в постель. Гогия, кацо… «Э-эх, — длинно присвистнул он сквозь дыру в зубах и сплюнул в нее Гаврик, — где теи башмаки-и-и! Босявка ты, босявка… Да-а-а… Самый смак ПОТРЕБУВАТЬ себе сейчас дринка. Но косо смотрит Фриц Ферштейный, не дает спуску. Святой Иорген.»
— А со своим полом у вас как? — (переводчица сильно вздрогнула).
— Да нормально. Бабы есть бабы, змеи подколодные, продажные флейтистки.
— А вы можете изменить любимому человеку?
— Если я не могу изменить его, то да. И вообще я его плохо помню, и вообще вопрос поставлен узко и плоско. Скажем, если он полярный экспедитор, что мне, разрядки не искать? Да и полигамность, да и многое другое говорит само за себя, что недоразумение как материал и как прием — сплошное недоразумение, потому что материал слит с приемом и равен ему. Но всею жизнию движет недоразумение. А если еще ширше, по Аристотелю — перипетия.
— А как у вас рождается сюжет?
— А как ему не родиться? Все время что-то сотрясается. Подерусь, бывало, встану, и энергия покупки пива сублимируется в описание. Или наоборот, иду чего-нибудь шманать для жизни. Одеваю очки, чтобы не было видно правого глаза, ветер раскачивает, аки березу, голодное тело мое, а гляжу — какие четкие контуры! Небо светлеет. Украли помойные контейнеры, и содержимое их разбросали по мостовым. Спешат в школы говорливые, хорошо одетые дети, и так захватительно перекладывать прожженный у костра рукав куртки в прожженность жизни. И представлять всяко. Будто я седая. И никогда не сплю на кровати. Я вижу человека, который спит в переходе в луже собственной крови, нежно зажав в руке крупный осколок бутылки. Он весь такой неприбранный, что похож на моего любимого. Мне хочется сказать: «Коленька, любенький мальчик, для чего ты тут залег? Ты что, в натуре, допился? Да ты лежи, лежи, я сейчас принесу все, что надо». И опять же сбегать за пивом. Так во мне рождается все.
— А что для вас философия?
— Философия для меня, переиначивая Абрама Терца, — это умственная разновидность ветренности. Особенно, когда нажрешься шоколада с коньяком и поговоришь с нормальным человеком. Придерживаюсь дуализма античного плана, а в религии приучена к монотеизму, однако верую в знаки земли и Космуса. Знаю противоречивость. Тяготею гадать и сны разузнавать.
— А в горящую избу вы входите?
— Вы знаете, товарищ немец, у меня такое ощущение, что я выхожу из нее все время: вот так вот, как задержанный кадр: раз, раз, раз. И не то что облегчение, а горит все. Все горит! Огонь! Брысь отсюда, немчура! Пшол!
Несинхронный перевод меня утомил, и все корреспонденты поняли, что со мной шутки плохи, что меня вдруг замыкает и я ухожу из избы.