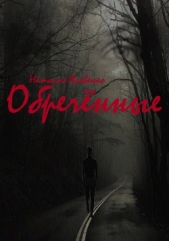Сочинения. Том 2. Невский зимой
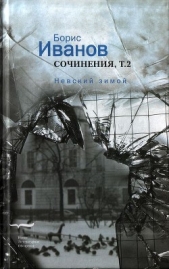
Сочинения. Том 2. Невский зимой читать книгу онлайн
Борис Иванович Иванов — одна из центральных фигур в неофициальной культуре 1960–1980-х годов, бессменный издатель и редактор самиздатского журнала «Часы», собиратель людей и текстов, переговорщик с властью, тактик и стратег ленинградского литературного и философского андеграунда. Из-за невероятной общественной активности Иванова проза его, публиковавшаяся преимущественно в самиздате, оставалась в тени. Издание двухтомника «Жатва жертв» и «Невский зимой» исправляет положение.
Проза Иванова — это прежде всего человеческий опыт автора, умение слышать чужой голос, понять чужие судьбы. В его произведениях история, образ, фабула всегда достоверны и наделены обобщающим смыслом. Автор знакомит нас с реальными образами героев войны (цикл «Белый город», «До свидания, товарищи», «Матвей и Отто»), с жертвами «оттепельных надежд» («Подонок») и участниками культурного сопротивления десятилетий застоя — писателями и художниками («Ночь длинна и тиха, пастырь режет овец», «Медная лошадь и экскурсовод», «На отъезд любимого брата»). Главы из мемуаров «По ту сторону официальности» открывают малоизвестные стороны духовного сопротивления диктатуре.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Речь он понимал по движению губ. Да и глухота его не была абсолютной. Он, например, реагировал на стук в дверь; на уличные сигналы милицейских и медицинских машин поднимал голову. «Он не хочет нас слышать, — доказывал своим друзьям студент Коля, который, кажется, поставил перед собой задачу проникнуть во все тайны Олега Корзухина. — Ему, — разъяснял он, — удалось забыть обо всем, что нельзя увидеть глазами, он достиг такой визуальной концентрации на вещах мира, которую знали, возможно, лишь творцы наскальных изображений…»
Родственник предал его многолетнее одиночество. Раньше он начинал день с чистого НАЧАЛА. Нужно было видеть, какой соразмерностью отличались его движения, как если бы каждый предмет он уравновешивал: зубную щетку, ломоть хлеба, стакан чая, — на невидимых тонких весах, — не движения, а математически выверенные траектории рисовались в воздухе. Окутанный ими — одевался жить; упорно вглядывался: здесь ли, в своей вагонообразной комнате, или на улице — в происходящее. Никогда не останавливаясь, проходил мимо, но возвращался, если «завязывалось» (нечто). Возвращался уже озадаченный, уже готовый к смелости, уже бросающийся в глаза — и часто от него бежали матери с детьми, гневались алкаши на скамейках скверов, продавщицы уличных лотков отгоняли, смеялись грязные асфальтщики, косил глазом надменный постовой, собаки вопросительно взмахивали хвостами — он не останавливался, но вдруг снова возвращался, и те, кто хулил его, подмигивали ему, кто бежал, — тому он казался потешным; он мог привести в отчаяние своими возвращениями, своим явно ненормальным интересом; сквозь ветви кустов вдруг снова видишь его дурашливое лицо, а забытого находишь в том же магазине, где стоишь в очереди за мясом. Он, по-видимому, людей помнил долго — годы, персонажи его «объектов» старели, он сам за это время старел и вызывал симпатии одинаковой судьбой, не менее загадочной, чем их собственная.
Ведь каждый из нас тоже «озадачивается», но мы идем мимо и не возвращаемся — зачем? — можно жить с посеянной тревогой и «вопросами», засыпанными пылью новых впечатлений. В безобразных снах наши тревоги пройдут как тени — другое дело Корзухин: он делает картины и не видит снов.
Теперь по утрам он застает в своей комнате следы вчерашнего нашествия. Прежде жильцы-старушки относились к нему почтительно: как к мужчине с солидными привычками — торжественно молчали и соревновательно суетились, когда он вкручивал новую пробку в электрощиток или налаживал работу унитаза: «хорошо, когда в доме есть мужчина», «хорошо, что не надо бежать за каждой мелочью в жилконтору, от которой никогда ничего не добьешься», «у нас, слава Богу, сосед — лучше не надо», — теперь же они пишут заявления к участковому, в товарищеский суд, в газету, в райисполком, в прокуратуру, в дружину — они в постоянном негодовании. В этих бумагах жизнь художника получила многократное отражение: первые критические свидетельства о его жизни.
В свидетельствах старушек было немало преувеличений, которые можно объяснить их старанием привлечь к своему делу внимание. Можно заметить выражения, заимствованные из телевизионной программы «Человек и закон», а также их деятельное воображение, которое не могло совладать с явлением странным и, очевидно, опасным, если не для финального отрезка их жизни («нам осталось жить немного», — писали они), — но для других, для общества. И в самом деле, что нужно всем этим людям в невообразимых одеждах, бритым и длинноволосым юношам, девицам с отрешенными лицами, бородатым, священнического вида мужчинам у холостого и глухого кровельщика жилконторы, из комнаты которого годами не доносилось ни звука, а теперь — гул непрерывного заседания и очевидно неуместный смех? Каждый вечер идут и идут и топчут пол к туалету и на кухню, где один чайник сменяет другой, как после совещания. В коридоре курят, говорят непонятными словами, но если присмотреться, то получается — фарцовщики и наркоманы или баптисты: банда.
Жизнь художника обрела огласку. Оказывается, он вырос на большой дороге. Несколько улиц, со старыми домами, брандмауерами, пожарной каланчой, «шашлычной» и двумя рабочими столовыми, с неразличимыми до этой поры облупившимися кариатидами на фронтонах зданий, мемориальной доской, которая будила теперь иронию, и колоритом жизни, требующим теперь своего увековечения, — все это становилось «корзухинскими местами». К пятиэтажному дому, к серой пыльной лестнице, к двери, обитой обшарпанным дерматином, с почтительным страхом перед деянием его — неясным, но совершающимся с машинообразной фатальностью, шли и шли. Он был подобен хронометру, который гонит стрелку во тьме и на свету, в ящике стола и подброшенный в воздух. Мимо него невозможно было пройти, как в мистических обществах не миновать посвящения.
Он как будто требовал жертв — наводил мысли на самоубийство. Справлять по себе тризну приходил Коломейцев. «Откуда ты взялся?» — он, хмельной, спрашивал глухого Мастера.
А тот, высокий и сутулый, с большими кистями рук и одутловатым лицом, никогда не снимающий шапку-ушанку: ни зимой, ни летом, ни дома, ни на работе, с полным отсутствием выражения на лице, вернее, перемен выражения (идол? кретин? гений? схимник? бобыль? жрец? один или одинокий? нужный ли?..), усаживался несколько в стороне, вытянув длинные ноги, и застывал в безразличном внимании. Мысль о самоубийстве приходила после… Вначале картоны. Черно-белые. Дома, заборы, небо, лавки, детская коляска и женщина, человек со скрипкой, кто-то-и-кто-то-еще — во взаимодействии чего-то совершающегося. Сейчас произойдет! Что? Ожидание, напряжение… а потом, уже на улице или дома — надлом, жить не хочется, — совершился где-то там, в благополучной структуре бытия, будто по уже готовой трещине.
Студент Коля не мог простить Корзухину пережитого: в черную ночь еле одолел «ничто тотального отчуждения». «Вы словно хотите сыграть картину Корзухина, чтоб вас расстреляли на вершине холма», — так он рассказывал.
Выздоровев, за несколько дней возмужавший, студент явился к Мастеру. Без благоговения, без пиетета, новым лицом усмехаясь, сказал:
— Картинки делаете?
— Вы пьяны, — пробормотал Мастер.
— Нет, я не пьян. — Коля махнул в сторону работ Корзухина. — Это всего-навсего краски, — вот что я хочу сказать. Из этого еще ничего не следует! Ни-че-го! Ни-че-го!
Корзухин встал и подошел к мольберту. Студент был первым человеком, которого удостоили смотреть, как Корзухин работает.
Да, картины художника были черно-белыми. Но писал он не белилами и сажами, а любым сочетанием краски добивался впечатления черно-белости: простоты, контрастности и единства. Нужно было рассматривать «пятачки» в отдельности, чтобы увидеть зеленое и красное, желтое и синее. Коля разъяснял зрителям «принципы Корзухина»:
— Это — антиживопись, аннигиляция цвета цветом, черно-белая сверхфотография.
Ни в какие принципы Корзухин студента не посвящал. По-видимому, ему было вообще безразлично, что о нем говорят. Он перелагал ответственность на самих толкователей. И студент принял ответственность на себя. Из нравственных побуждений он Мастера разоблачал.
Он приходил в вагонообразную комнату Корзухина, как на дежурство. В портфеле книги для чтения и еда. Так в музеях дежурят гиды, пока не соберется очередная группа экскурсантов. Он вступал в разговор, когда пришельцы начинали обсуждать живопись Мастера.
— …Я говорю не только об иллюзии, которая присуща искусству вообще, ведь перед нами всего-навсего краски, но это иллюзия еще и в другом смысле. Поверить Корзухину — значит поверить в потустороннюю жизнь: вы должны поверить, что ваши различительные способности и ваш мозг будут функционировать и после того, как вас раздавит машина, когда вас расстреляют или хирург зарежет на операционном столе, вам жизнь покажется иллюзией, а смерть — не выходом, а входом.
— …Чепуха, никакой свободы вам Корзухин не презентует. По ту сторону никакой свободы нет, если вы выжили, вы находите свою судьбу. Но личная судьба ничуть не лучше кабины лифта.