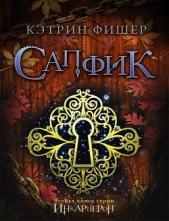Повесть о любви и суете

Повесть о любви и суете читать книгу онлайн
Нодар Джин родился в Грузии. Жил в Москве. Эмигрировал в США в 1980 году, будучи самым молодым доктором философских наук, и снискал там известность не только как ученый, удостоенный международных премий, но и как писатель.
Романы Н. Джина «История Моего Самоубийства» и «Учитель» вызвали большой интерес у читателей и разноречивые оценки критиков. Последнюю книгу Нодара Джина составили пять философских повестей о суетности человеческой жизни и ее проявлениях — любви, вере, глупости, исходе и смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
28. Много синего среди закусок
Вкус у того оказался очень мозаичным. Но уже начальная мозаика составленной только из самых дорогих закусок. Причём, в таком количестве, словно вылет задержали на недели. Много было даже чего-то синего. Американцы тоже, видимо, ни разу не видели среди закусок столько синего. Много было и непонятного по существу.
Пока гарсон раскладывал яства на столе, я подсчитал в уме наличные в моём кошельке и тихо спросил гарсона — принимает ли он AmEx.
Тот назвал меня «сударем» и громко объявил, что предпочитает наличные.
Анна вытащила из сумки толстую пачку стодолларовых банкнот и опустила на стол.
Катя сдвинула чёрные брови, а Гуров слегка улыбнулся, раскрыл Анне ладонь, вернул туда со стола пачку и, заметив ей, что перевязывать деньги следует плотнее, сказал мне:
— Сегодня буду платить я!
Я согласился, догадавшись, что платит он за всех не только сегодня.
Пока принесли закуски, все мы молчали. То ли вправду слушали романс, то ли притворялись. Катя волновалась и мяла в тонких пальцах пробку от шампанского. Гуров дважды приложил к губам пустой бокал. А Анна тоже дважды раскрыла сумку, но не нашла чего искала.
Я слушал романс внимательно, заподозрив даже, что мой московский друг разыскал меня по телефону, но, разобравшись в ситуации, велел не подзывать меня, а просто проиграть по спикерам «Я встретил вас». Подозрение казалось мне логичным в той же мере, в какой алогичным казался всегда его вкус. Женщин он разделял на двенадцать категорий по объёму, форме и упругости бюста и ягодиц, но всем им неизменно наигрывал дома этот романс. Предупреждая, причём, что «композитор неизвестен», он произносил эту фразу подчёркнуто загадочным голосом. В надежде, что слушательницы заподозрят в авторстве мелодии его:
После этого романса, впервые, кстати, показавшегося мне непошлым, гарсон как раз и накатил на нас коляску с яствами. Когда он удалился, переложив всё на стол, Катя снова подобрела. Чокнулась бокалами с Анной и сказала ей вдруг:
— А ты, если, конечно, хочется, возьми и скати с души свою телегу! Я Митя не даст соврать — я училась на психиатра… — и рассмеялась: — Пока не перестала!
Гуров подтвердил. И то, что учила, и то, что он Митя. И даже — что икра свежая.
— А это и не важно, что училась на психиатра, — продолжила Катя. — Я тебе, Анюта, как баба! Расскажи — и станет легче.
— Это трудно, — возразил Гуров и положил Анне на тарелку бутерброд с икрой. — Рассказывают друзьям.
— Как раз и нет! — воскликнула Катя и осторожно заправила в рот ломтик форели. — От друзей как раз всё скрывают. Почему, думаешь, на Западе все лезут на ток-шоу и изливают души? Почему?
— Потому что идиоты! — рассудил Гуров.
— У тебя, Мить, все, кто за бугром — идиоты. А за бугром у тебя даже хохлы!
— Потому и идиоты, что поставили бугор! — и взглянул на меня. — Или те же грузины! Чем им, скажи, было хуже без бугра?
— Ничем! — согласился я.
— Ну, хрен с грузинами, — горячился Гуров, — их уже турки вовсю затуркали! Но Украина! «Ой, як стало весiло, так що не було!» Всё поют, когда реветь пора!
— Так прямо и реветь! — сморщилась Катя и вытянула из губ рыбную косточку.
— Вы украинка? — спросил я её.
— Что — не видно?! — ответил Гуров.
— Я думал — еврейка. Или даже грузинка.
— Один дрек! — огрызнулся Гуров.
Мы с Катей отодвинули тарелки.
— Слушай, Митя! — буркнул я. — Извинись!
— Верно говорят: извинись! — качнула Катя маслиной на вилке. Чёрной, как зрачок.
Гуров задумался. А может, просто прислушался к тенору, чей путь был тосклив и безотраден, и прошлое ему уже казалось сном и томило наболевшую грудь, тогда как ямщику было плевать: он гнал лошадей. Гуров потянулся рукой к чему-то синему на блюдечке и грустно произнёс:
— Херню я, конечно, понёс! Абсолютную херню! Мне на деле всё по фигу. Я только… Я про Крым только. Пусть себе хохлы как угодно выкобениваются, но Крым должны возвратить, — и погладил теперь Анну тоскливым взглядом.
— Особенно Севастополь, — предположила она тихим голосом.
— И ещё Ялту! — восхитился он.
Я обратил внимание, что голос Гурова, когда он обращался к Анне, становился шире, чем был.
— Да? А почему и Ялту? — поинтересовалась Анна.
Катя снова укололась. Теперь рёбрышком перепёлки. И выложила его на тарелку.
— Ребро! — извинилась она, присматриваясь ко взгляду, которого Гуров не отнимал от Анны. — А я тебе отвечу, Анюта, почему и Ялту! — взволновалась Катя. — А потому, что… — и поморщилась. — Как его звали-то? Мужика этого. С ребром. Наоборот — без.
— Какого? — растерялась Анна.
— Ну, самого первого.
— Богдан.
— Я не про тебя. Вообще.
— Адам, — догадался я.
Катя погладила мою ладонь и сказала:
— Правильно, Адам! Я про него из-за Фрейда забыла! А вспомнила из-за ребра! Он, думаешь, Анюта, почему согласился из ребра бабу ему сотворить? А не из ноги? Почему?
Анна не знала. Не знали и мы с Гуровым.
— А потому, что рёбер много, Анюта, а мужикам всего надо побольше: не только Севастополь, но и чего-нибудь позелёней, — Ялту! Не только жену, но и чего-нибудь позелёней! А если в кошельке есть зелёные, то можно уберечь и ребро!
— Сейчас уже ты за херню взялась! — громко прервал Катю Гуров. Сузившимся голосом. — Абсолютную херню! Всё у тебя уже смешалось! Зелёный, красный, синий!
Самая краснолицая американка оттянулась теперь к Гурову:
— Очен извинить! Я желаю спрашиват про синий: как этот вы називает?
— Это херня называется! — совсем уже узко бросил ей Гуров через плечо. — Абсолютная херня!
— Не хами! — раскраснелась и Катя. — И извинись!
— Ещё?! — возмутился Гуров и принял такое выражение лица, при котором в обозримом будущем не извиняются. Наоборот, сами требуют извинений. — Извинись сама!
Я поднял бокал и предложил выпить за именинницу.
— Не надо больше за меня, — произнесла Анна. — И ссориться тоже никому не надо, да? Давайте лучше я вам всё сейчас расскажу. Вот только ещё этот бокал допью…
29. Она замолчала оттого, что не пела
Так я всё и услышал про судьбу Анны Хмельницкой.
Рассказывала она хоть и скороговоркой, но долго, потому что время от времени останавливалась. Видимо — по мере того, как в голове её или в сердце останавливалась какая-то мысль. Точнее — какое-то чувство, ибо остановившихся мыслей у неё было мало. Чаще всего чувство было, видимо, печальное.
Впрочем, закончила Анна рассказ как раз весёлым воспоминанием.
Ей показалось, что когда впервые объявили о задержке рейса и она пошла к телефону звонить в Лондон, — ей показалось, что я увязался за ней произнести глупую фразу. Что-нибудь про лицо. Дескать, очень похожее. Потому, что в моём возрасте мужики говорят ей только о лице. А думают, мол, как все остальные — о корпусе. Как, например, тот же Гуров. Который сразу, оказывается, про корпус и заговорил. И который, кстати, — пока подошёл к ней, — выглядел, как старинные часы. С маятником.
Гуров не стал уточнять почему. То ли знал про маятник, то ли осмысливал услышанное. Подозвал взамен гарсона и заказал ещё водки.