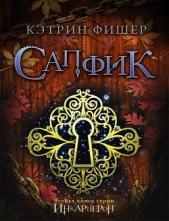Повесть о любви и суете

Повесть о любви и суете читать книгу онлайн
Нодар Джин родился в Грузии. Жил в Москве. Эмигрировал в США в 1980 году, будучи самым молодым доктором философских наук, и снискал там известность не только как ученый, удостоенный международных премий, но и как писатель.
Романы Н. Джина «История Моего Самоубийства» и «Учитель» вызвали большой интерес у читателей и разноречивые оценки критиков. Последнюю книгу Нодара Джина составили пять философских повестей о суетности человеческой жизни и ее проявлениях — любви, вере, глупости, исходе и смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Придётся открывать.
— Чемодан я уже сдала. Но, может, у Виолетты ещё есть. Это подруга.
— А ты не психуй, — посоветовал я. — Время есть: целых триста минут!
Анна принялась о чём-то думать. Даже прикрыла веки. Потом качнула головой:
— Тут какая-то ошибка. Ты тоже не беспокойся. Позвоню Виолетте: она сейчас в дороге на работу. А я пока пойду к собачке, да? Я её тут одной бабке сдала подержать.
— Твоя? Я про собачку. У тебя, спрашиваю, есть собачка?
— Шавка такая. Ну, шпиц просто. Грузин подарил. Я и ему, кстати, могу позвонить в Москву про лондонский номер. Ты не беспокойся. А я пойду, да?
Я молчал.
— Пойду, да? — ждала она.
— Иди, конечно, но… Я про шпица. Если ты его везёшь в Лондон, то напрасно: там очень долгий карантин. Не впустят. Я про шпица.
Анна совсем растерялась и стала беспомощно оглядываться по сторонам.
Окружающие осуждали меня теперь за суровость. В их числе — Маятник.
— Иди! — разрешил я и направился к крутящемуся выходу. — А я там покурю.
На воздухе, как я и подозревал, меня ждал давнишний вопрос.
Он был простой: Что теперь делать?
Действительно, я уже давно боялся всякого совпадения. Даже сходства. Между вещами, событиями, людьми. Чем более пунктирной виделась мне связь, чем короче чёрточки и длиннее ничто, пустота, — тем таинственней, то есть страшнее, эта связь, значит, и есть. Самой опасной является такая, которой нету. И опасна она как раз потому, что чревата пониманием.
Боюсь этого, видимо, не только я, поскольку не я придумал и спасение. Метафору. Умение не думать о вещи, сравнив её с другой. Умение преодолевать её, всякую, — даже такую, как время или место, — бегством в другую. Отвернувшись от понимания, пробуждаешь печаль, но её услаждает иллюзия сближения вещей в пунктирном, поверхностном, сходстве.
Если бы эта повесть была обо мне, я бы рассказывал и о другом вопросе, который — когда я вышел покурить — сдавил мне горло. Он был как раз непростой, поскольку пристал не к голове, а к сердцу, смутив его не смыслом своим, а сладкой своей печалью.
Вопрос был тот же: Что теперь делать?
Через много лет моего существования, после длинной его пустоты, заполненной обольстительным чувством обжитости, — возникает вдруг чёрточка. Сочинская красавица, пробудившая в памяти первые обольщения, — другие чёрточки, перебившие некогда другую пустоту.
Поскольку, впрочем, рассказываю не о себе, на оба вопроса я ответил легко: А делать нечего. И ничего не надо. Разве что отстраниться: уподобить происходящее прологу к любым другим длинным пустотам. Другим продолжительным ничто. И снова допустить его исчезновение в легкокрылой печали метафоры.
С этим заданием себе я вернулся в зал через другую крутящуюся дверь — в дальнем конце здания. Она, как я и подозревал, сразу же вкрутила меня там в бар, где я и осел на три часа, писательствуя и смело попивая абсент. Пусть даже другой писатель, успевший уже и умереть, Хемингуэй, предупреждал, что абсент порождает импотенцию.
25. Невозможно пресытиться привычкой
Анна настигла меня сама.
Сперва, правда, с телеэкрана.
Я с изумлением смотрел на неё в просвете между венценосными бутылками на полке и слушал о том, что любовь к яблокам указывает не только на трудолюбивость и практичность, но ещё и на консервативность, тогда как клубнику любят утончённые и элегантные. Виноград пожирают в основном люди скрытные, апельсины — лёгкие, арбуз — дотошные, грушу — мягкие и спокойные, а из овощей о деловитости больше всего свидетельствует тяга к картофелю и молодому луку.
После «молодого лука» Анна тронула меня за плечо и улыбнулась, когда я обернулся. Снова дохнув сиренью, она стала убеждать меня, что классификацию составили психологи, передача старая, и вместо лука следовало сказать «артишоки», но это — когда волнуешься — из сложных слов.
Потом она сказала пару простых про свою связь со «Здоровой едой» и присела за мой столик. Несмотря на ореховый цвет, глаза у неё были ярче света и словно изумлённые, а кожа на лице — тугая и гладкая, как у белой сливины. На щеке, однако, досыхала слеза, но Анна объяснила и это: прощается со шпицем.
За её спиной возникли немолодой тёмный мужчина с маленькой розовой женщиной, прижимавшей к груди крохотного же щенка. Но белого. Анна усадила их за наш столик и объяснила мне, что это её друзья, которым она и решила оставить свою шавку, поскольку в Британию её не впустят.
Немолодой мужчина сразу же пожаловался на Британию и, перейдя на английский, заявил мне, что Германия снисходительней. Потом потряс мне руку, выучил моё имя и назвал взамен два: Цфасман из сферы продовольственного снабжения и супружница Герта из Баварии. Герта — на языке подстрочников извинилась за характеристику, выданную Британии Цфасманом. Я объяснил, что родился как раз в Грузии, и она похвалила меня за то, что в отличие от Цфасмана на родину не рвусь.
Я запротестовал и заверил, что рвусь. Потому и оказался в Сочи. Был по делам в Турции, но оттуда решил залететь не только в Тбилиси, но и в братскую Абхазию, куда меня не впустили, но откуда в Москву легче всего вылететь из Сочи.
Анна гладила косматую шавку и говорила ей длинные фразы. Та моргала глазками, но не верила обещаниям и скулила.
Прикрыв вдруг пальцами густые волосы на носу, Цфасман шепнул мне на ухо, что у Анны исключительная душа и просил меня в меру сил заботиться о ней в Лондоне. И что — пусть Гибсон шотландец и работает в уважаемой корпорации — Цфасман питает жанровое недоверие к молодёжи. Не только к шотландской. Я рассердился на него за зоркое зрение и догадку, что к молодёжи причислить меня невозможно.
Цфасман предупредил ещё, будто предлагать Анне любую помощь следует настойчиво, ибо она стеснительна и щепетильна. Даже ему с Гертой позвонила проститься лишь полтора часа назад. Потом супруги облобызали всхлипнувшую Анну, распрощались и — под жалобный лай белого шпица — удалились.
Я дал Анне время просушить глаза и успокоиться. Она заказала рюмку портвейна, отпила и, всё ещё всхлипывая, сказала, что Виолетта — сука, поскольку отказалась приютить собаку, из-за чего и пришлось вызвать бабая с цюцей. Хотя они не такие уж близкие друзья.
На вопрос дала ли ей Виолетта другой лондонский номер Анна ответила, что у неё есть лишь номер факса и общий телефон Би-Би-Си. Но, рассердившись из-за шпица, Анна брать его не стала, тем более, что он, конечно, есть и у меня.
Я снова обиделся. И снова — в связи с моим возрастом. Анна, видимо, не сомневалась, что никакой бабай не способен с ней на капризность, — только молодой шотландский ясень. И что всякий бабай сочтёт за честь отвлечься на неё от всякой цюци.
Отхлебнув абсента и помножив свою обиду на уже принятое решение отстраниться от Анны, я объявил ей, что общий номер бесполезен, но у меня его нету. Нету ещё и желания разыскивать в Лондоне шотландца.
Есть другое: вернуться к абсенту и к рукописи, потому что я пишу важную повесть. Не о географических превратностях любви, а о главном справедливости и смерти. Насильственной. Насильственной справедливости и насильственной же смерти. И не о безответственном лондонце с жанровой фамилией Гибсон, а о трагической польской личности по фамилии Грабовски. Который, между прочим, так разочарован в жизни, что собирается убивать. И тем самым утверждать справедливость. Тем более — никого не любил и не любит. И уже не успеет. Ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни даже в Польше — нигде.
Анна слушала молча, словно ушла в глубины своей души. Или словно смотрела не на меня, а на Ленарда Коэна, сменившего её на экране среди бутылок и напевавшего грустную мелодию о том, будто