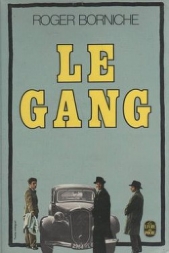Избранное
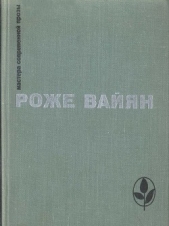
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он, родившийся в 1884 году в Западной Европе, а точнее — в Южной Италии, был обречен на медленное самоубийство, распадающееся на последовательно сменяющие друг друга фазы в соответствии с эпохой. И длилось это семьдесят два года, и не всегда было неприятно. Да будет так. Аминь.
Радости познания, утехи любви и охоты — всего этого хватало с лихвой, чтобы заполнить досуг, на который его обрекли обстоятельства. Родился он богатым и был осыпан всеми дарами, что позволило ему стать uomo di alta cultura — человеком высокой культуры (как говорят жители Южной Италии) и прожигателем жизни (как выражались французы великих эпох), в те времена, в той стране, что обрекла его на медленное самоубийство (не без приятности), и все ради того, чтобы не уронить своего достоинства. Да будет так. Аминь.
Он принимает себя самого таким, каким он был всегда и каким остался в свой смертный час. Приятие это имеет цену лишь для него одного, только в собственных глазах, но в смертный его час, в незамутненный ничем смертный час безбожника, это приятие приобретает непререкаемую ценность. Да будет так. И он произносит громким голосом:
— Cosi sia. Аминь.
— Аминь, — отзывается Мариетта.
Они услышали, как «тополино» судьи прогремело по мосту, переброшенному через водослив озера. Мариетта спустилась в нижнюю залу и смешалась с группой женщин, окружавших большой стол из оливкового дерева и возносивших всевышнему мольбы. Тонио провел судью в спальню дона Чезаре.
— Дорогой мой Алессандро, — начал дон Чезаре, — у меня тут к вам одна просьба…
Историк города Урия обращался к историку Фридриха II Швабского. Его смертный час близок, гораздо ближе, чем он предполагал. Он просит судью проследить за тем, чтобы собранные им древности не разошлись по рукам и чтобы его труд о греческих колониях в Манакоре в эллинистическую эпоху был бы предоставлен в распоряжение эрудитов. Ему бы хотелось, чтобы дом с колоннами превратили в музей: в своем завещании он это предусмотрел, выделив на нужды музея небольшую сумму; если это по каким-либо причинам невозможно, то пусть его коллекции, рукопись, записки, заметки и фонды передадут в краеведческий музей города Фоджи — эта возможность тоже предусмотрена в завещании. Он был бы весьма признателен судье, человеку высокой культуры, человеку науки, если бы тот лично проследил за неукоснительным выполнением соответствующих пунктов завещания.
В сущности, дон Чезаре и сам дивился, почему он придает такое значение всем этим пустякам. Он умрет, и вся вселенная перестанет для него существовать. Впрочем, вот уже несколько лет, как он смотрит на себя как на мертвеца. Но в бесповоротную минуту окончательной смерти он не без удовольствия дарит бессмертие обломкам и остаткам древнего города Урия, его усилиями добытым из-под слоя песка, из топи болот и бездны забвения. Так уж пусть его друг Алессандро простит ему это последнее кокетство.
Судья горячо поблагодарил дона Чезаре за оказанное ему весьма лестное доверие.
Но дон Чезаре, по его словам, отчасти опасался своих слуг, а еще больше родственников, которые нагрянут из Калалунги, поэтому он вручил судье свое завещание и позднейшие приписки к завещанию и просил передать бумаги нотариусу. Тут он протянул судье пачку денег, завернутых в газету, пятьдесят билетов по десять тысяч лир.
— Один из моих рыбаков нашел эти деньги, спрятанные в низине. Безусловно, это те самые, что украли у швейцарца…
— Мне необходимо повидать этого рыбака, — заметил судья.
— Но вы же сами знаете, что это за люди, — ответил дон Чезаре. — Они не любят связываться с полицией и судейскими. Он просил меня не называть его имени. Я похвалил его за честность и дал ему слово, что его никуда вызывать не будут.
— Но ведь по этому делу арестован человек. У меня против него неопровержимые улики…
— Тем паче нет никаких причин тревожить моего рыбака.
— Но я обязан устроить им очную ставку!
— Алессандро, — укоризненно произнес дон Чезаре, — ведь у меня теперь иные заботы…
— Простите меня, — живо проговорил судья.
Он уехал, увозя с собой завещание, пятьсот тысяч лир и терракотовую масляную лампу III века до рождества Христова, расписанную обнаженными фигурками, — для донны Лукреции в знак последнего восхищения умирающего красивой женщиной.
Мариетта снова поднялась в спальню и заняла свое место у одра больного.
А в нижнем зале к женщинам, толпившимся вокруг стола из оливкового дерева, присоединились и рыбаки. Весь зал был битком набит людьми, возносившими молитвы об исцелении от недугов.
Мариетта сразу же задремала, но время от времени вздыхала не только грудью, но и животом, морщила в улыбке губы, делала какое-нибудь из тех прелестных движений, которым обучил ее прошлой ночью и нынче днем Пиппо на груде мешков в сарайчике на плантации, где весело журчали три ручейка.
Дон Чезаре провел эту ночь, как и предыдущие: то забывался сном, то просыпался. Когда он открывал глаза, в поле его зрения попадала Мариетта, освещенная керосиновой лампой, голова ее была откинута на спинку кресла, которое она подтащила к самой постели, губы полуоткрыты и вокруг глаз черные круги, след любовных утех.
Когда занялась заря, дон Чезаре разбудил Мариетту и велел ей открыть ставни.
Знакомый пейзаж предстал его взору: водослив озера, пробивавшего себе дорожку среди зарослей камыша и бамбука, вплоть до устья реки, до которой было отсюда рукой подать, слева перешеек с его дюнами, справа скала наподобие женской груди, как бы выходящая прямо из моря; на горе храм Венеры Урийской, вокруг которого росли одни лишь розмарины, а там дальше вся манакорская бухта и замыкающий ее мыс, а на мысу стрелы трабукко, огромнейшей махины, но с кровати дона Чезаре трабукко кажется не больше обычной рыбачьей баржи, огибающей оконечность мыса. Из-за сосновой рощи вылезает солнце и золотит песок перешейка. За ночь сирокко одолел либеччо, и гряду туч угнало в открытое море.
Дон Чезаре попросил Мариетту сменить ему наволочки и простыню. Он любил прикосновение свежего полотна с еще неразошедшимися после глажки складочками.
— А сейчас мы попросим Тонио меня побрить, — заявил он.
Видно было, как один из его рыбаков пересекает водослив озера, сидя на корме узенького челнока и беззвучно работая коротенькими веслами. Стая «железных птиц» взлетела вслед за челноком и направилась к озеру.
Дон Чезаре подумал, что никогда уже ему не пойти на охоту в прохладный предрассветный час. На миг почудилось, словно у него что-то отняли, и ему стало грустно. Но тут же он с насмешкой отогнал эту мысль: кто, в сущности, у него что-то отнял? Да и наохотился он на своем веку вдосталь, до скуки. Но единственное, что он, пожалуй, любил по-настоящему, — это шагать узенькими тропками, проложенными через топь и по песку перешейка, по холодку, на утренней зорьке. Никогда уже не почувствует он, как под ногой пружинит дорожка, проложенная в глиняной почве, плотно убитая и в то же самое время податливая, до того пропиталась она болотной влагой. Такова жизнь — аминь! Деревья умирают, когда не способны больше пускать новые побеги, даже оливковые деревья, а уж на что они долговечнее всех прочих; четверо мужчин, взявшись за руки, и то не могут обхватить отдельные экземпляры на его оливковой плантации, и узловатые их сучья все еще хранят память о согнувших их бурях, о последних веках Римской империи; но случалось, что какой-нибудь из этих великанов умирал: в один прекрасный день, без всякой видимой причины вдруг желтели листья, и, когда спиливали дерево, весь ствол до самой сердцевины был мертв.
Думал дон Чезаре и о том, что никто никогда не увидит его глазами расстилавшийся перед ним кусок пейзажа: низину, перешеек, бугор храма Венеры, залив и мыс; не сможет, подобно ему, охватить единым взглядом и минувшее и настоящее, благородный город Урию, план которого он собственноручно восстанавливал, собирал по крупицам то, что от него осталось; угрюмый римский город II века, где стояли гарнизоном германцы; пески и грязь, затянувшие все, чисто христианское нерадение, недаром же священнослужители никому еще не ведомого бога похитили Венеру Урийскую, втащили ее на вершину Манакоре, украв у нее все, вплоть до имени, заключили ее навеки в тесную клетку храма их Урсулы, глупышки девственницы и мученицы, святой, годной лишь разве для ночного мрака; случайно обнаруженные гавани, построенные в низине еще сарацинами; выложенные камнем набережные, которые десятки лет спустя перестроил заново Фридрих II Швабский; снова пески и грязь, когда власть перешла в руки идиотов Бурбонов Неаполитанских; и, наконец, охотничьи и донжуанские угодья самого дона Чезаре, соломенные хижины рыбаков, чьи женщины все до одной побывали в его наложницах! Никто уже никогда не сможет единым взглядом объять все это минувшее и все это настоящее, эту минутную историю людей и историю одного человека, тесно связанного с настоящим, с торжественной минутой настоящего, — человека, готовящегося покинуть этот мир в здравом уме и трезвой памяти. Все это уже не будет таким, каким было для него, — в этот миг наконец-то слившимся воедино.