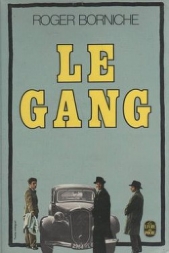Избранное
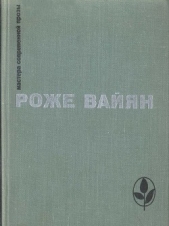
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они ждали судью. Мариетта думала о том, какие огромные деньги просадил дон Чезаре на эту Люсьену; дон Чезаре думал о том, что вся его жизнь была построена на сплошных самоограничениях.
Был он и игрок, и выпивоха, как большинство офицеров их полка. Да и почему бы ему не пить и не играть? Даже суровый кодекс офицерской чести не запрещал ни выпивок, ни карточных игр. Но вот в один прекрасный день он разглядел в чертах своего лица — лицо игрока, то есть человека, чье поведение обусловлено привычкой к игре, для которого игра — это уже закон. И, увидев такого человека, он уже видел его как чужого себе. В тот же день он бросил играть.
Через всю жизнь он пронес нерушимым единственный для него моральный закон — сохранить себя для некоего дела, которого он так и не совершил. Всякий раз, когда, по его мнению, он бывал втянут в то, что не мог считать главной своей задачей (каковую в конце концов он так и не осуществил), он сразу и без малейших усилий отступал, как умеет отступить прирожденный и хорошо владеющий рапирой фехтовальщик.
Однако не так-то просто оказалось отвыкнуть от алкоголя. Люди чести с легкой душой уж скорее предаются пьянству, нежели унизительным любовным интрижкам или механическому раздражителю азартных игр, коль скоро и то и другое связано с дурным обществом или просто с неприятностями. Алкоголь воспламеняет (любимое выражение картежников) в той же мере, однако оставляет человеку иллюзию, будто в процесс питья втянут лишь он один, и притом меньшая часть его самого. Пришло время, когда ему при пробуждении требовалось выпить целый стакан водки. Самому порвать с этой пагубной привычкой не хватало силы: пришлось прибегнуть к помощи врача.
Было это во Флоренции. Кровать, железный стул, деревянный белый стол; палата не больше тюремной одиночки; случалось, здесь запирали буйно помешанных. Больница стояла на вершине холма над самым Арно, к реке террасами спускались сады, но с постели видно было одно лишь небо. Как только утихли первые спазмы отлучения от алкоголя, подобные конвульсивным движениям новорожденного младенца, который впервые в жизни очутился нагим и беззащитным от яркого света, холода, шумов, прикосновений, словно лишенный кожуры плод, как только прошла первая тяжкая полоса линьки, он стал точно мертвый.
Стайки розовых перистых облачков, окрашенных последним светом закатных лучей, медленно-медленно проплывали в клочке неба, схваченном проемом окна. А он лежал как мертвец. Он чувствовал себя полностью раскованным, будто спали с него какие-то узы, совсем как распадались эти недолговечные облачка, когда легкий ветер пригонял их к выходившему на юг окну и медленно выгибал в небе аркой, а когда их тянуло к северу, рассеивал их, превращая в золотистую дымку. Значит, думал он без страха, но и без радости, если есть что-то ему одному принадлежащее, значит, думал он, это смерть, моя смерть. Но если ты, о человек, прозреваешь свою смерть, следовательно, ты живешь! И ему становилось до слез мило это небо, нежное майское небо, собственная его жизнь, здесь, над Арно, присутствие которого только угадывалось над этой медлительной рекой, отражавшей небо, как и его глаза.
Труднее всего оказалось избавиться от последней — политической страсти. С самого детства он был привержен к Савойскому царствующему дому и к идее королевской власти, к королям-героям. Взрослым он и сам убивал, и сам сотни раз рисковал быть убитым во время первой мировой войны, ради того чтобы вернуть Тренто и Триест Виктору-Эммануилу III. Он до дрожи обожал этого низкорослого коротышку, своего короля. Но Виктор-Эммануил отдал в руки Муссолини всю реальную власть; диктатор, некоронованный монарх, оглушил весь мир раскатами своего голоса балаганного фигляра, играл мускулами, рассчитывая тем самым купить голоса плебса. Buffone уселся на трон baffone [29].
Эпоха королей-героев кончилась.
Дон Чезаре удалился в свой дом с колоннами. И тогда он снова подумал: «Если ты, о человек, прозреваешь свою смерть, следовательно, ты живешь». Но на сей раз потребовался не один год, чтобы занять свое место живого среди живых. Он начал раскопки с целью восстановить историю благородного города Урия. Но никогда уже больше он не соотносил смысла своей жизни с предпринятым делом.
Дон Чезаре полусидит в постели, под спину ему подсунуты подушки, парализованная рука покоится на парчовой подушечке. Мариетта сидит у изголовья кровати, на ней всегдашнее ее полотняное платье, туго обтягивающее молодую грудь, а сама она жадно ловит шорох автомобильных шин перед крыльцом, но автомобиля все нет и нет. Оба ждут судью Алессандро. Мариетта тревожится, почему это так замешкался судья; а главное, она боится, как бы полиция не опередила его и тогда ее заберут в тюрьму. Дон Чезаре размышляет о своей смерти.
Он не задумывается над тем, существует ли тот свет, обнаружит ли он там господа бога, будет ли господь бог его судить, и воскреснет ли он сам в день Страшного суда, и будет ли ему уготовано вечное блаженство или вечные муки. Он и без того знает, что нет.
Не задумывается он и над тем, есть ли смерть страдание как таковое или просто она еще одно страдание среди прочих страданий. Он знает, что страдание — один из бесчисленных аспектов бытия и что смерть по самой сути своей ничто.
А думает он о том, что рожден там, где рожден, что прожил свою жизнь, как должно прожить ее человеку знатному, сообразно с достоинством, присущим человеку такого происхождения и такой формации вот в эти времена, вот в этих местах и вот в этих обстоятельствах.
И он произносит громко, вслух:
— Cosi sia, да будет так, аминь!
Слова эти вовсе не означают, что он готов покориться божественному закону, как покорны ему христиане, или закону биологическому, или социальному, или личному, как покорны все верующие всех сект. Самому себе он утверждает самого себя. Каков уж был, таков и есть. Ни о чем он не жалеет, ничего не стыдится, ничего уже не желает; просто он старается разобраться в себе самом, оповещает (самому себе) о том, каков он был и каким он остался в свой смертный час. Вот что подразумевает он под этими словами: «да будет так, аминь».
— Cosi sia, аминь, — отзывается Мариетта.
Она-то считает, что отозвалась, как и подобает христианке, на предсмертную молитву христианина. Но она такая закоренелая язычница, что смысл, который она вкладывает в слово «аминь» (хотя вряд ли сама отдает себе в этом отчет), не так уж далек от того смысла, какой придает этому слову дон Чезаре.
Десятки раз в своей жизни человеку высокого происхождения приходится брать в руки оружие, воевать. Так было на протяжении всей Истории, в любые ее эпохи. А в оставшиеся свободными от войны дни такой человек соблюдает дистанцию между собой и всеми прочими. Дон Чезаре достаточно повоевал на своем веку и достаточно строго соблюдал дистанцию.
Он думает о том, что, подобно жителю Афин доперикловского периода, римскому гражданину в годы Пунических войн, члену Конвента в 1793 году, он из-за своего отказа подчиниться чужому закону мог примкнуть к сообществу, пусть малочисленному, людей, ломающих подгнившие основы общества и открывающих народам новые пути. В известные эпохи, в известных странах человек его ранга находит опору в самом ходе Истории и, преобразуя мир, тем самым подтверждает свое достоинство.
Думает дон Чезаре также о том, что, родись он при Августе или Тиберии, при Лоренцо Медичи или Иване Грозном, его отказ подчиняться закону вынудил бы его покончить с собой, к каковому выходу и прибегали люди его ранга, когда им не удавалось ускользнуть из лап тирании. Право на самоубийство, которое даже самые зоркие тюремщики, самые изощренные палачи могут отсрочить лишь на время, всегда было в его глазах единственным, но неопровержимейшим доказательством свободы человека.
Таким образом, думает он, и сообразно с обстоятельствами человек его ранга считает своим долгом решиться либо на действие, либо на самоубийство, но чаще всего на долю такого человека выпадает череда последовательно сменяющих друг друга и друг друга порождающих обязательств и освобождения от этих обязательств. И в самой этой постоянной смене, то вынуждающей к действию, то освобождающей от действия, и заключается его достоинство как человека.