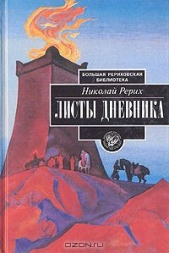Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы
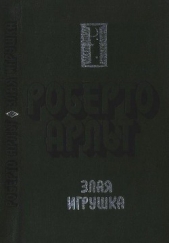
Злая игрушка. Колдовская любовь. Рассказы читать книгу онлайн
Роберто Арльт (1900–1942) — известный аргентинский писатель. В книгу вошли его социально-психологические романы «Злая игрушка», «Колдовская любовь» и рассказы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Атлетического сложения швейцар, облаченный в голубую ливрею, с самодовольным видом читал газету.
Смерив меня с ног до головы взглядом цербера и, удовлетворенный, словно получив наконец несомненное подтверждение, что я не какой-нибудь воришка, он милостиво, на что давала ему право надменная голубая фуражка с золотым шнуром, разрешил мне войти, процедив:
— Лифт налево.
Выйдя из кабины, я очутился в темном коридоре с низким потолком.
Матовая лампа, мерцая, отражалась в блестящей облицовке степ.
Глухая одностворчатая дверь квартиры с круглым бронзовым замком была такая маленькая, что казалась похожей на дверцу огромного сейфа.
Я позвонил, и прислуга в черной юбке с белым передником провела меня в маленькую гостиную, оклеенную голубыми обоями в крупных тускло-золотых цветах.
Сквозь волнистый газ занавесок сочился голубоватый больничный свет. Пианино, безделушки, бронзовые статуэтки, вазы с цветами. Внезапно до меня донесся запах тончайших духов; дверь открылась, и в комнату впорхнула женщина, маленькая, с детским выражением лица и светлыми завитками на висках. Пушистый вишневый халат с глубоким вырезом падал на белые, отороченные золотой тесьмой туфельки.
— Qu’y a-t-il, Fanny?[18]
— Quelques livres pour Monsieur…[19]
— За них уплачено?
— Да.
— C’est bien. Donne le pourboire au garçon[20].
Горничная взяла с подноса какую-то мелочь и протянула ее мне. Я сказал:
— Я не беру чаевых.
Горничная неуклюже отвела руку, но куртизанка разгадала мои чувства и, пропев:
— Très bien, très bien, et tu ne reçois pas, ceci?[21] — смеясь, поцеловала меня в губы, так что я даже не успел помешать ей, вернее ответить ей должным образом, и, вновь рассмеявшись, как нашалившая девчонка, исчезла за дверью.
Богохул уже проснулся и приготовился одеваться, точнее сказать, приготовился надеть ботинки. Сидя на краю топчана, заросший и грязный, он раздраженно озирается. Дотянувшись до фуражки, он по привычке низко нахлобучивает ее, затем устремляет взор на свои ноги в кричаще красных носках и наконец, засунув мизинец в ухо, вертит его там с удивительной быстротой, производя при этом крайне неприятный звук. В конце концов он решается и сует ноги в ботинки; сгорбившись, идет он к двери, возвращается, шарит по полу и, подобрав окурок, сдувает с него пыль, закуривает и выходит.
Я слышу его шаркающие шаги за дверью. Сам я не спешу вставать. Я думаю, нет, скорее, я просто поддаюсь наплыву сладкой тоски, боли, еще более сладостной, чем треволнения влюбленного. Я вспоминаю вчерашние удивительные «чаевые».
Меня переполняют неясные желания, какой-то смутный туман проницает меня, делает меня воздушным, безликим, окрыленным. Внезапное воспоминание об аромате духов, о белизне кожи пронизывает все мое существо, и я знаю, что, очутись я вновь наедине с ней, я лишился бы чувств от любви; и совсем не важно, что я знаю, что она принадлежала многим, и, очутись я там, в гостиной с голубыми стенами, я склонился бы перед ней, положил бы голову к ней на колени и за один упоительный миг обладания, не раздумывая, решился бы на самое позорное и на самое сладостное.
Картины, которые рисует желание, медленно проходят передо мной, и я вижу, как кокотка примеряет свои прекрасные соблазнительные наряды, очаровательные шляпки; представляю ее в спальне, полуобнаженную, и это страшнее и губительнее самой наготы.
Желание медленно овладевает мною, воображение входит в подробности, и я думаю о счастье, которое несет с собой такая любовь, блистательная и пышная; о чувствах, которые ожили бы во мне, если бы каждый день, просыпаясь в богатой спальне, я видел рядом свою возлюбленную, полуобнаженную — как на обложке дурной книги.
И моя плоть, жалкая плоть маленького мужчины, вопиет, взывая к отцу небесному.
— Господи, ведь у меня никогда, никогда не будет возлюбленной — как те, что улыбаются с обложек дурных книг!
Чувство гадливой ненависти вызывали во мне обитатели этой клоаки, изрыгавшие лишь алчность и злобу. Злоба оскаленных лиц оказалась заразной, и случалось красная пелена тоже застилала мой мозг.
Какая-то страшная усталость сковывала меня. Временами мне казалось, что я могу проспать двое суток кряду. Я чувствовал себя внутренне нечистым, чувствовал, что пороки окружающих изъязвляют мою душу, прогрызают в ней темные ходы. Я засыпал, скрипя зубами от злости, и просыпался молчаливым и мрачным. Отчаянье билось в висках, и каждой пядью своего тела я ощущал в себе рост неведомой силы, не знакомой ни одному из пяти чувств. Часами я пребывал в напряженном, мучительном отупении. Как-то донья Мария, находясь в дурном расположении духа, велела мне вычистить уборную. Я молча повиновался. Думаю, я сознательно умножал в себе темные намерения.
В другой раз дон Гаэтано, смеясь, обнял меня за талию, похлопывая другой рукой по груди, чтобы проверить, не выношу ли я книги. И я не нашел в себе сил возмутиться или хотя бы отделаться шуткой. Так было нужно; да, было нужно, чтобы я, чью жизнь девять месяцев в муках питало собою женское чрево, претерпел все оскорбления, все унижения, все мытарства.
Тогда же я как будто оглох. Надолго утратил я способность воспринимать звуки. Лезвие безмолвия, как бритвой, перерезало связь между мною и миром.
Я не мог думать. Рассудок, как шарик в детской игре закатился в лунку ненависти, разверзавшуюся день ото дня. Так зрела во мне моя ненависть.
Мне дали колокольчик, и — господи боже мой! — как забавно было видеть юнца вроде меня за таким нелепым занятием. Стоя в часы пик в дверях лавки, я должен был звонить в колокольчик, привлекая публику, чтобы уважаемая публика знала, что здесь продаются книги, замечательные книги, и что здесь вполне можно договориться с неким пройдохой или с его толстой бледной супругой о сходной цене за истории о чудесах благородства и красоты. И я звонил в колокольчик.
Взгляды толпы ощупывали меня. Никогда не забыть мне эти женские лица. Эти глумливые улыбки…
Да, усталость сковывала меня… Но разве не сказано: «…будешь добывать хлеб свой в поте лица своего»?
И я мыл полы, тер тряпкой места, где только что ступали туфельки прекрасной незнакомки; и ходил на рынок за покупками все с той же огромной корзиной… Наверное, если бы мне плюнули тогда в лицо, я только спокойно утерся бы ладонью.
Темнота оплетала меня цепкими тенетами. Лица любимые до слез, стерлись в памяти; я вдруг увидел, что между днями пролегла вечность… и слезы во мне иссякли.
И тогда я вспомнил слова, значение которых раньше было для меня смутно:
«Страдай, — говорил я себе, — страдай… страдай…»
Страдай… страдай…
«Страдай…» — шептали мои губы.
Так за эту адову зиму я успел повзрослеть.
Однажды вечером — дело было в июле, — когда дон Гаэтано уже запирал железные ставни, донья Мария вдруг вспомнила, что оставила на кухне тюк взятого из стирки белья.
— Пошли Сильвио. Поможешь, — обратилась она ко мне.
И пока дон Гаэтано гасил свет, мы отправились на кухню.
Помню, как сейчас: тюк с бельем лежал посередине, на стуле. Повернувшись ко мне спиной, донья Мария ухватилась за связанные узлом концы тряпки. И тут я заметил тлеющие в жаровне угли.
«То, что нужно», — молнией мелькнуло в голове, и, не колеблясь я положил раскаленный уголь на стопку бумаг, лежавших на полке.
Дон Гаэтано повернул выключатель, и мы вышли.
Донья Мария взглянула на усыпанное звездами небо:
— Как красиво… видно, похолодает, — сказала она.
Я тоже взглянул вверх.
— Да красиво.
Богохул спал; я, сидя в кровати глядел на круглое пятно света падавшего сквозь окно на противоположную стену.
Сидя в темноте, я улыбался, как свободный человек, свободный раз и навсегда; улыбался при мысли о том, каким взрослым и мужественным был мой поступок.