Украденный роман
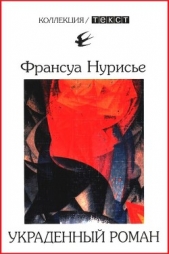
Украденный роман читать книгу онлайн
Франсуа Нурисье — признанный классик французской литературы XX века, до недавнего времени президент Гонкуровской академии. В новой книге Нурисье приглашает читателя в свою творческую лабораторию, а поводом к этим мудрым, порой печальным, порой полным юмора размышлениям послужил почти анекдотичный житейский случай: у писателя украли в аэропорту чемодан, в котором, помимо прочего, была рукопись его нового романа…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иллюзия превосходства отличается от тщеславия: она не столь дородная, не столь нахальная, не столь самоуверенная. Иллюзия превосходства обычно держится в тайне; она утешительна лишь в глубине души; она меньше питается внешними проявлениями значительности (хотя не всегда их избегает… У кого хватило бы на это сил?), чем самодовольство. Иллюзия превосходства, к примеру, ставит литературные достоинства выше социальных преимуществ; она кичится своеобразным одиночеством, какой-то скрытой верой в себя. Но самый здравомыслящий человек (ведь каждый считает себя здравомыслящим так же твердо, как блестящий стилист или простой работяга) тоже отделывается словами. Лесть, самодовольство — пирожные очень вкусные: мы их поглощаем с той беспечностью, что позволяет жирку откладываться у нас на бедрах и постепенно придает нам силуэт амфоры.
Жюльена в «Ласточке» каждый раз, когда Гийом начинал уж слишком чваниться, насмешливо его осаживала. «Не унывай, — говорила она, — ты лучше всех…»
Я дал поставить себя на почетное место, на полку «лучших», почти того не осознавая. Это так легко! Достаточно прислушиваться к сиренам и быть глухим к насмешникам. Сначала похвалы вызывают улыбку, заставляют краснеть; потом они щекочут самолюбие, льстят; скоро они кажутся естественными, тотчас вслед за этим — заслуженными. И вы пропали. Никакой фильтр уже не действует. Теперь вы не слышите ничего, кроме ликующего колокольного звона. Вы стали членом семьи, более того — какого-то клуба. Вы не только таким родились, вас еще и кооптировали. В конце жизни люди убаюкивают себя этими приятными перезвонами и начинают чистить свои перышки.
От иллюзии превосходства не очистишься щеткой и не отмоешься мылом. По-настоящему на это можно решиться только с помощью приступа отвращения, внезапной ненависти к себе. Несмотря на то что вы уже давно чувствуете себя в полной безопасности, может хватить одной бестактности, неосторожно высказанного суждения, приоткрытой в неурочный час двери, чтобы иллюзия дала трещины и обрушилась. Мы падаем вниз со своей высоты. Для меня роль разоблачителя сыграл «упорхнувший» роман. Мне пришлось не только старательно порочить мою работу — к этому я привык, — но и резать по живому. Меня загнало в угол возвращение рукописи: «Вы утверждаете, что она вам противна? Хорошо, сделайте из этого выводы!..» («Живое», заметим, чрезмерно сильное слово: «труп» уже давно не шевелился.) Все приятности тщеславия, искушение играть роль, которой от меня ждали, — ничто не могло одержать верх над удовольствием, да, удовольствием чувствовать себя и подавленным, и убежденным теми доводами, какие я сам тщательно обосновал. Мне представилась прекрасная возможность самым что ни на есть беспристрастным образом признать собственную правоту. В общем, самому расстаться со своими ошибками.
Сюрприз: все снова уравновешивается в этом неожиданном отрицании себя, подобно тому, как уравновешивалось в самодовольстве. Строгие голоса уже не столько не согласны с вами, сколько снисходительны. Не нравиться самому себе не более неприятно, чем по слабости критического суждения проявлять к себе терпимость, которая меня поражает и забавляет, когда я вижу ее другие жертвы, но я почти не обращаю на нее внимания, если сам ее проявляю и извлекаю из нее пользу.
В опасном положении
Всю жизнь, в течение неторопливой партии, что разыгрывается в промежутке между первым сердечным трепетом подростка и первыми фибрилляциями сердца, мы откладываем решающие схватки на будущее. Воплотить в жизнь большие надежды? Завтра! Соблюдать диету, изменить свое поведение, исполнить чью-то просьбу? Завтра. Создать шедевр? В конце концов, он никуда не денется. Мы уверены, что время у нас еще есть, что нам хватит и сил, и душевного порыва. Мы уверены, что сможем преодолеть еще несколько пролетов лестницы. И мы даже охотно верим, что на склоне дней сохраним высшее достоинство — упорство. «В силу возраста» — какое химерическое выражение! Моя мать, считая, что я немного располнел, учтиво замечала: «Ты окреп…»
Потом однажды понимаешь, что время не только отмерено: оно исчерпано. О, нам, конечно, по-прежнему будет очень хотеться праздности, светских ужинов, пустяков, проделок, но для главного замысла сил уже не осталось. Замысла, который, как мы были уверены, сидел у нас в потрохах и в мозгу, хотя мы уйдем, так и не узнав, был он или не был всего-навсего дымом. Достигший заката жизни писатель, не проявивший себя полностью, — это пустой мечтатель. Годы, силы, терпение — все было растрачено. Или разбазарено? Иногда и так бывает. Или это происходит по причине коварно-медленного, капля за каплей, течения времени. Оказываешься в опасном положении.
Чувство собственного достоинства требует, чтобы ты приноравливался к этим масштабам, вдруг ставшим ограниченными, к этому ослабевшему рвению в работе, к этим вялым новым мыслям: ты уже не сделаешь больше, не напишешь лучше. Ты тот, кто ты есть, навсегда. По сравнению с золотом мечтаний какое убожество эта мелочь!
Я все чаще думаю об этом, провожая покойников на кладбище. Мало тех, кто имел (или завоевал?) время свершить свой подвиг. В последний час жизни большинство обнаруживает, что они оставляют незавершенной свою работу. Считается, что умирающие «вновь просматривают фильм своей жизни». Я в это совершенно не верю. Смерть не столь щедра, чтобы дарить своим жертвам этот порыв поэтической ностальгии; вероятно, в последнюю секунду она осеняет их каким-то ошеломляющим прозрением: они ничего не сделали; они, наверное, одновременно переживают мысль о судьбе, которая была их судьбой, и откровение, что они эту судьбу не свершили.
Но, вынужденный почтительно стоять перед трупами — как они пожелтели, сморщились! — так же думаешь о том сокровище, какое они уносят с собой. Уносят все, даже самые обездоленные. Память, мастерство, опыт, мечты: в те минуты, когда во имя похвалы и скорби мы подытоживаем их, от них не остается ничего. Живые представляют собой центр необычайных встреч, горнило грандиозных энергий: что с ними происходит? Они исчезают вместе с рыданием или вздохом, и бренными их останками овладевает небытие. И мертвые оказываются в беспросветном положении. Черное — подлинный цвет скорби.
В час подведения итогов также не следует бросаться в пропасть угрюмой скромности. Поддаваться другому самодовольству, столь лестному в своей мрачности, превращаться в ничтожество. Самое трудное — все верно рассчитать. Это раздумье о моей пропавшей работе, которое, как я понял, мне хотелось продолжать, стало для меня поводом к тонкому расчету: я хотел избегнуть слишком многого и слишком малого. Не впадать в излишнюю печаль или в пафос. И это равновесие я должен был отыскивать, не забывая о некотором шутовстве. Я всегда очень старался сохранять серьезность. Более похвально сохранять веселость. Мне кажется, что я, когда высовывал нос из своего логова, оставался веселым малым, и это было одним из редких удовольствий в то полное горестей лето.
Время, когда мы оказываемся в опасном положении (было бы нечестно этого не отметить), в гармонично унылых жизнях, которые не переживали никакого особенного горя, — это пора, когда ослабевают желания и воля к жизни. Надо выразить это открытие без эффектов, без пафоса, ибо речь идет об очень простом законе жизни, который заключается в том, что жизнь слабеет и исчерпывается на манер электрической батарейки или фитиля свечи. Эти сравнения исполнены успокаивающей банальности, способной устранить любое подозрение в мелодраматичности. Является ли этот спад жизненного порыва тем, что католическая теология называет состоянием благодати? Дело в великодушии, в благожелательности Бога, который в нужное время приведет нас в то расположение духа, в каком мы будем меньше желать, меньше бояться, и тем самым приготовит нас к неизбежным ущербностям старости, болезни и смерти. Я надеюсь, что не допускаю никакой святотатственной бессмыслицы. Я лишь упоминаю здесь о том опыте, который, как мне кажется, предчувствуется. У меня было предчувствие — и в нем я тотчас почерпнул утешение и благодарность, — что в часы полной слабости и конца, которых я страшусь больше всего, я буду чувствовать себя достаточно усталым (за неимением идеального чувства пресыщенности, на каковое надеяться не смею), чтобы отречься от того, что вот-вот от меня ускользнет, если не с легким сердцем, то, по крайней мере, не без душевной твердости. Утратить волю к жизни совсем незадолго перед тем, как жизни лишишься, — это большая привилегия. Ее близость или неизбежность обнаруживаешь сразу, как только приступаешь к той генеральной уборке, к которой нас побуждает изменение направления линии нашей жизни, скорое прибытие к концу пути.




![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















