Украденный роман
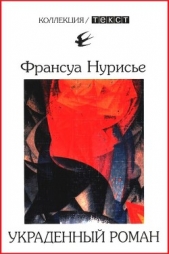
Украденный роман читать книгу онлайн
Франсуа Нурисье — признанный классик французской литературы XX века, до недавнего времени президент Гонкуровской академии. В новой книге Нурисье приглашает читателя в свою творческую лабораторию, а поводом к этим мудрым, порой печальным, порой полным юмора размышлениям послужил почти анекдотичный житейский случай: у писателя украли в аэропорту чемодан, в котором, помимо прочего, была рукопись его нового романа…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перечитывая эти двести листов, я не мог забыть оправданные или кажущиеся таковыми упреки, которыми я (мысленно) осыпал мой текст, когда он был мне недоступен. Тогда я стрелял вслепую — это несколько напоминало игру в морской бой, которая очаровывала меня в детстве, — но убедился, что немало снарядов попало в цель. Увы, как много прямых попаданий! Мои самые цветистые страницы, тщательнее всего отделанные пассажи разбивались вдребезги. Я снова оказался, хотя меня поздравляли с возвратом моего текста так, будто я совершил геройский поступок, перед зрелищем если не развалин, то, по крайней мере, каких-то проб, разочарований, незавершенных попыток: это была заброшенная стройка. Хватит ли у меня мужества вновь взяться за работу? Какая-то сила во мне отказывалась от этого с поразительной решимостью.
Надо было что-то отвечать тем, кто спрашивал меня о сроке публикации «Ласточки». Мои недоуменно поднятые брови, мои неуверенные жесты вызывали неизменный комментарий: «Вы вносите улучшения в текст, это понятно! Два месяца раздумий, конечно, меняют точки зрения… И т. д.».
Точки зрения?
Правда состоит в том, что меня тошнило при одной мысли лишний раз перемешать этот несвежий салат: его листья (листы?) казались мне пожухлыми, прокисшими. Проявляя осторожность, ставшую немного смешной, я сделал с рукописи две ксерокопии и убрал три папки в стенной шкаф, откуда их больше не доставал.
Почему эта нелюбовь?
Я снова стал плохо спать, почти так же плохо, как двумя месяцами раньше. В часы бессонницы я не мог не думать о том, какими глазами смотрели на мою рукопись ее похитители, если им вдруг отчего-то пришло в голову ее перелистать. Предположение абсурдное, я это понимаю, ибо вряд ли карманники (или воры, вырывающие сумки, обкрадывающие автомобили: кем их считать, узкими специалистами или универсалами?) были заядлыми читателями, если вообще допустить, что мои воры читают по-французски. Но все-таки давайте помечтаем. Могут быть любопытные воры или попросту насмешники, которых позабавил бы просмотр текста. Текст, конечно, неразборчивый. Но они упорствуют, разбирают почерк, запинаются, спотыкаются на одних словах, тяжело вздыхают над другими, прослеживают извивы надписанных строк и постепенно — почему бы нет? — начинают понимать роман. Как же им смешно, они глазам своим не верят! Сначала их раздражают каракули («да тут лупа нужна»), неряшливый, одновременно и хаотичный, и педантичный вид каждой страницы. «Сколько же он угробил времени, чтобы сварганить это, кретин?» Вскоре их начинает возмущать все. «Ах, зануда, грязный тип, да еще извращенец! От этого разит порочным старикашкой…» Я вижу, как они вдвоем склоняются над синей папкой. Я, разумеется, наделяю их языком, литературным до крайности. Представляю себе их полное изумление, мгновенно сменяющееся скукой. «Неужели еще есть типы, которые стряпают такое? И сколько это ему приносит? Как ему платят, этому малому, за слово, за строчку, за страницу? Есть, кажется, такие, что загребают миллионы…» Большим пальцем они недоверчиво и брезгливо перелистывают эту «штуку», предмет, который не поддается классификации в сегодняшних категориях.
В мои бессонные ночи, когда я, все-таки погружаясь в полудрему, во всех нюансах обдумывал изумленные возгласы, какие приписывал моим ворам, измышляя их язык с явной популистской наивностью, я неизменно обращался к следующей мысли: да, они правы, разве можно в эпоху zip и zoom работать кустарным способом, сочетать, вычеркивать, неразборчиво писать эти старые слова? Одного внешнего вида моего текста — какой-то паутины, сотканной обезумевшим пауком, — было, конечно, достаточно, чтобы приговорить его к уничтожению. Заслуженное наказание. Как, у него даже нет компьютера, принтера, диктофона? Он даже не имеет «негра»? У него даже нет экрана дисплея, дискеты, пакета программ, «мыши», запоминающего устройства? Неужели у него нет ни одной современной хитроумной игрушки, которая, по крайней мере, освободила бы несчастного писателя от ручной работы и избавила бы его от опасности лишиться плода своего упорного труда? Эта поразительно немодная манера литературного письма, старье, хрупкая патина, испорченные пачкотней глаза — все, что мне казалось достойным уважения и должно было вызывать почтительную симпатию к автору, этому редкому зверю, на самом деле изумляло людей, вместо того чтобы чему-либо их научить. Они пожимали плечами. И никакого уважения. Объяснялось ли это тем, что священную рукопись оскверняли грязные лапы воров, или той веселостью, которая, как я угадывал, охватила их, когда они, заблудившись в лесах моей «постройки», открыли для себя и невинным взглядом рассматривали жалкую изнанку «литературного творчества» — вида деятельности минувшей эпохи, в котором лишь те, кто им занимается, еще усматривают причину гордиться собой?
Три иллюзии
1. Каждый писатель считает, что у него есть стиль. Каждый писатель убежден, что он — в силу дарования и труда, магии и терпения — обладает и пишет великолепным, сильным, ярким, свежим, чарующим языком, «одним из самых выразительных в его поколении» и т. д. Странно, если бы он не обнаруживал в критических суждениях, высказываемых о его прозе, кое-каких из этих определений. Это вполне естественно. Мы же свои люди. О нем также говорят, что «у него есть класс» (это реминисценция из Барреса). В его манере письма находят сочность, пластичность. Этот теплый дождь проливается на писателя и заставляет его расцветать. Вскоре писатель привыкает к этому дождю, который ему становится необходим. Когда дождь иссякает, писатель возмущается несправедливостью, интригами.
Однако, бывает, закрадывается сомнение: что, если эти чрезмерные комплименты и порождаемое ими приятное упоение представляли собой только формальности — подходящее слово! — приманки, ловушки для простаков? Что, если сам он, писатель, оказался простаком? А правда, возможно, напомнила бы скорее о пустых финтифлюшках, вымученности, а не о воздушной, высшей легкости? Не может ли быть так, что одно только умение скрывает безнадежную беспомощность? В чем доказательство, которое успокоило бы меня, в чем удостоверение, в чем неопровержимое свидетельство? Во времени, в потомках? Мне не дано этого знать. В суждении авторитета, который достоин того, чтобы к нему прислушаться? Такового не существует. В личной и твердой уверенности? Это видимость, за которой скрываются легковерие и самодовольство.
2. По-моему, я — есть и уверен, что всегда был, — «неутомимый труженик». Мое упорство в работе, мои достоинства лотарингского ремесленника — это догматы веры. Кто посмеет усомниться в том, что в тиши моего кабинета я занят лишь мелочными заботами, которых требует текст, придирками к языку, восхитительным процессом правки? Телефон отключен, закрыта — иногда на ключ — дверь. Что это — неприступная крепость или надежно оберегаемая дремота?
Когда я задумываюсь о себе, я вижу лицо, ставшее невыразительным и серым из-за долгих бессонных часов, топтания перед «верстаком», не говоря уже о сгорбившемся позвоночнике, покрасневших глазах, о спине, ноющей от мучительного сидения за пишущей машинкой.
Но если все эти слова лишь поза, оборот речи, вроде старого пиджака, напяленного — вот именно! — для работы? Разве я не готов побыстрее закрыть тетрадь, спрятать рукопись, чтобы щелканье двух резинок по углам папки подало мне сигнал к отдыху? Я вспоминаю, каким я был ребенком, паршивым, конечно, но и рассеянным, несобранным, всегда готовым отлынивать или хитрить. Меняемся ли мы вообще? Если бы я работал больше, то писал бы лучше. Больше и лучше, и это стало бы известно.
Если бы одной работы хватало для того, чтобы справиться с вопросом «зачем?», развеять уныние, неужели бы я не понял этого, неужели не выглядел бы бодрее?
Нет, а что, если я все-таки не лентяй, а лицедей?
3. Иллюзия превосходства — это итог всех других иллюзий. Я говорю об иллюзии превосходства, ссылаясь на премию из премий, как она вручалась давным-давно; тогда я еще красовался на эстраде, за два-три дня до 14 июля, двумя руками прижимая к животу стопку книг, выслушивая сдобренные юмором комплименты какой-нибудь «шишки», приглашенной председательствовать на церемонии награждения, и жидкие аплодисменты родителей. Мое самое яркое воспоминание о днях школьной славы относится к началу лета 1938 года, когда в коллеже Нотр-Дам огненно-рыжий усач — «бывший адъютант маршала Фоша» — обрушивал на меня похвалы, резкие, словно удары хлыста. Но в тот раз я тоже не добился первой награды, которой домогался на протяжении нескольких лет так же, как позднее больших почестей: я смотрел на все лукавым, завистливым и покорным взглядом. Этим объясняется мое удивление, когда мне удавалось найти несколько самородков славы: склонности к этому у меня не было.




![Том 1 [Собрание сочинений в 3 томах]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















