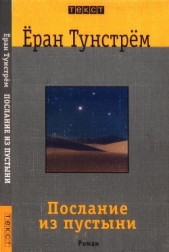Сияние

Сияние читать книгу онлайн
Ёран Тунстрём (1937–2000) — замечательный шведский писатель и поэт, чьи произведения стали ярким событием в современной мировой литературе. Его творчество было удостоено многих литературных наград, в частности премий Северного совета и Сельмы Лагерлёф. Роман «Сияние» на русском языке публикуется впервые.
Герой романа Пьетюр Халлдоурссон, удрученный смертью отца, перелистывает страницы его жизни. Жизнелюбивый, веселый человек, отец Пьетюра сумел оставить сыну трогательные — отчасти смешные, отчасти грустные — воспоминания, которые помогают тому пережить свое горе.
Игра света в пространстве между глазами читателя и страницами этой замечательной книги вот истинное сияние, давшее название новому роману Ёрана Тунстрёма.
«Афтонбладет»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— J’éspère que vous aimez bien notre pays? [44]
— Ah, Mademoiselle, vous aussi parlez français? [45]
Вместо ответа Леонора только застенчиво улыбнулась. Других реплик у нас в запасе не было, не успели отрепетировать.
Подали чай и тартинки, в том числе с креветками и майонезом, чтобы дать Оулавюру возможность развлечь почетных гостей рассказом об инциденте в посольстве одной из центральноафриканских республик, когда якобы только дипломатический иммунитет спас его от расправы.
— Я не хочу сказать ничего плохого об африканской национальной одежде, — начал Оулавюр, — но рукава у нее непомерно широкие. Я стоял и разговаривал со швейцарским атташе, который упорно не выпускал мою протянутую руку, а в другой руке я умудрялся держать тарелку и рюмку хереса. И вот к нам подошел один из этих сингалезских поэтов, которые пишут такие длиннущие строки, как бишь его звали, и затеял со мной разговор про Арне Сакнуссема, мол, насколько он реальное лицо. Поэт искренне обрадовался, когда я сообщил, что летний домик моей родни расположен неподалеку от того места, где, как писал Жюль Верн, можно спуститься к центру Земли, и обнял он меня с большим пылом, нежели мог стерпеть мой майонезный бутерброд, каковой стартовал с тарелки прямым курсом к огромному портрету Бокассы над диваном у нас за спиной, угодил ему в глаз и потек, будто слеза — майонез наверняка был легкий, — по его морщинистой щеке; в салоне воцарилась гробовая тишина, посол рухнул на ковер и несколько раз стукнул лбом об пол, бормоча уверения в своей преданности.
— Осталось пятно? — полюбопытствовал французский посол.
Затем Оулавюр решил, что настало время нам, детям, спеть песню-другую — все равно что, лишь бы посол почувствовал себя как дома. Министр юстиции разучил с нами «Sur le pont d’Avignon» [46] вкупе с исландским его соответствием «Илуалило», и мы, к всеобщему удовольствию, пропели то и другое. То есть посол и его супруга неотрывно смотрели в окно, а малютка Жюльетта при каждом удобном случае показывала мне язык.
Все словно бы думали о своем: наш президент, не терпевший дантистов, ковырял в больном зубе; министр иностранных дел мечтал забраться под свое мексиканское одеяло, с ужастиком и с женой, которая сама по себе тот еще ужастик, и слушать, как по крыше барабанит дождь, — таково было высшее счастье, вспомнившееся сейчас нашему министру.
Но не забудем о нас, детях.
Нам теперь нужно было шагнуть вспять. То бишь попытаться вспомнить, как мы вели себя несколько лет назад, и оживить эти воспоминания. Иначе говоря, нам предстояло играть. Вообще-то небольшое удовольствие — играть перед абсолютно равнодушным семейством французского посла. Дождь за окнами казался ему куда полезнее, чем всякие там прятки да жмурки, и, когда я принес в комнату футбольный мяч, он даже бровью не повел, пока я не устроил дриблинг прямо перед ним и его остроносой дочкой Жюльеттой.
Он подвинулся в сторону, ища взглядом кого-нибудь из сановников взрослой компании, но взрослые смотрели на мои ноги и тоже как бы несколько окаменели, а я подумал, что Оулавюр, который ненароком отлучился в туалет, попросту их не предупредил.
Позвольте добавить только одно: теперь, в зрелом возрасте, я могу отличить минскую вазу от подделки, но я в жизни не слыхал, чтобы такое умение требовалось от двенадцатилетнего мальчишки. И повторяю еще раз: Оулавюр кивнул, поддержав мою идею насчет замены подлинных ваз. Однако Оулавюр не имел своих детей и, наверно, толком меня не слушал. Кстати, бил вазы не я один. Две штуки расколотил Бенедихт.
~~~
Неделю спустя французского посла объявили персоной нон грата и выслали из страны, в двадцать четыре часа. День выдался ветреный, клубы тумана наплывали с юго-запада, когда служебный автомобиль выехал из ворот. Надо полагать, он сидел за дымчатыми стеклами, сжимая в руках мой мяч. По какой-то необъяснимой причине отец узнал час отъезда и сообщил мне, хотя было это во время уроков. Но начальник протокольного отдела тоже присутствовал при сем и мертвой хваткой держал нас обоих. Кучка полицейских и наш ПОЭТ довершали эскорт.
— Этот отъезд не сулит ничего хорошего, — сказал Оулавюр. — Вы поставили всю нацию в прескверное положенние. Официально обвинить посла в краже мы возможности не имеем, даром что он оказался круглым дураком. О чем я и молил всех богов. Интересно вот только, какой монетой отплатит Франция.
Автомобиль подпрыгнул, съезжая с тротуара, и через заднее стекло я увидел Жюльетту: она показывала мне язык и, приставив большие пальцы к ушам, махала руками. Прижатый к стеклу, мерзкий красный язык увеличился вдвое.
Охранник закрыл ворота, автомобиль покатил в сторону Хрингбрёйт и исчез из виду.
Отец бессильно воскликнул:
— Я напишу письмо французскому президенту и добьюсь, чтобы этот человек предстал перед парижским судом по гражданским делам!
— Халлдоур, дорогой, ты уже и так зашел слишком далеко. Кончай, а? Футбольный мяч не настолько важная штука…
Я вообще не знал, что и думать. В этот мяч отец вдохнул свою душу, в нем было мое будущее. «Ювентус», «Рома», «Арсенал» — только выбирай.
Но, как уже сказано, история эта затянулась и всем надоела. В школе ко мне стали относиться иначе, посмеивались за спиной. И отец ожесточился: должно быть, внутрь мяча перешла изрядная толика его тепла и заботливости; мне было больно день за днем видеть его непримиримость.
Какой монетой отплатила Франция, мы скоро узнали: наш посол в Париже вернулся домой. Бедняга пробыл во Франции недолго, но ему очень там понравилось, дети учились во французской школе, а здешние доброжелатели не преминули известить его, кто затеял весь этот конфликт.
~~~
В результате — «ради моего же блага», как звучала коварная формулировка, — отцы города предали анафеме и меня. Сразу по окончании учебного года мне предстояло отправиться в ссылку. Подальше в глубь страны. Где же находилось исландское Ex Ponto? [47]
Дядя Торстейдн, возвратившийся то ли из Куала-Лумпура, то ли из Джибути, загружал свой большой «лендровер» на высокой подвеске.
— Могу взять парня с собой. Я задумал в этом году объехать церкви между Брейдавиком и Сайбоулем, и мне нужен помощник, чтобы качать мехи. Потом могу оставить его у наших двоюродных братьев, им наверняка пригодятся лишние руки на ферме.
Дело в том, что дядя Торстейдн, находясь в Африке и в Азии, сражаясь с тропическими жуками, цикадами и прочей нечистью, мечтал опробовать каждый орга́н и фисгармонию, какие есть в Исландии. Ежегодно он осматривал десятков пять, проверял, выставлял оценку и терзал отца рассказами об их состоянии и качестве.
— Халлдоур, для чего человек предназначен в жизни? Одни пьют чай и едят пирожные, другие тренируют тело, пока в гроб не лягут, третьи читают романы, плохие либо хорошие. И на смертном одре вспоминают, стало быть, пирожные, тренировки да романы. Так почему не орга́ны и не фисгармонии? У меня хорошая музыкальная память — лежу, ворочаюсь, а в голове струятся звуки, слышанные за всю мою жизнь, — что же в этом плохого, а?
— А сам ты музыку не сочиняешь?
— Я толкователь, интерпретатор. Мне легче восхищаться, чем критиковать, может, это слабость такая в моем характере. Моя любовь к искусству, если угодно, коренится в ощущении, что я способен близко-близко подобраться к помыслам Великих. Иной раз, хочешь верь, хочешь нет, я чувствую себя кошкой, которая совершенно беззвучно ступает по клавишам, чтобы не шуметь вместе со мной.
— Ты? Кошка?! — фыркнул отец.
— Да, а что? Натура интерпретатора — смирение. Тут как в любви: каждая ласка — ради нее, ради той, что эту ласку приемлет, это она владеет своим телом и должна ощущать его как совершенство.