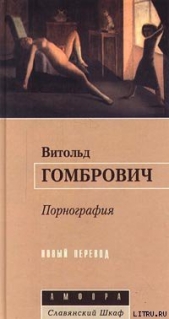Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пятница, 20 апреля
Европа предо мной! Париж!
Накануне встречи с Парижем, когда я обязан выглядеть блестяще, быть твердым и острым, как бритва, я рассеян, размазан, несобран…
В Париже я не был с 1928 года. Тридцать пять лет. Тогда я шатался по Парижу как ничего не значащий студент. Сегодня в Париж прибывает Витольд Гомбрович, а это значит приемы, интервью, разговоры, совещания… и надо организовать себе результат, я еду в Париж, чтобы завоевывать. Уже много людей втянуто в эту битву, и они ждут от меня результата. А я больной! Рот сухой, взгляд мутный, температура…
В этом разложении меня мучит необходимость, о которой я знаю, что она неизбежна, — то, что я в Париже буду вынужден быть врагом Парижа. Да что там говорить! Меня проглотят очень легко, если я не стану костью в горле, не сумею заявить о себе, если они не почувствуют во мне врага. Нет, никаких подробностей относительно честности такой позиции ad hoc, разработанной с холодным расчетом; честность — вздор, даже речи не может быть о честности, когда ничего о себе неизвестно, когда ничего не запомнилось, когда нет прошлого, когда ты только настоящее, постоянно отплывающее в прошлое… В таком тумане да угрызения совести?
Но трудно придумать судьбу более ироничную: я, снова, теперь, в моей отверженности, в удалении по водам, должен был ваять себя из этого тумана, каковым я сейчас и являюсь, и эту мглу, этот туман превращать в себе в нечто массивное и твердое!
Воскресенье, Барселона
Коснулся европейской земли сегодня, 22-го, давно уже знаю, что две двойки — это мое число; на аргентинскую землю я спустился впервые 22 августа. Привет тебе, о магия! Аналогия цифр, красноречивость дат… несчастный, если ни во что другое не можешь, то пробуй хоть в это поймать себя.
Дошел до площади, где стоит памятник Колумбу, и окинул взором город, в который, быть может, перееду после Берлина на постоянное жительство (меня ужасает каждое слово этого предложения: «дошел» и «до» и «площади» и т. д.).
Несказанно ужасает меня и наполняет отчаянием, что я себя таскаю по этим местам, как что-то еще более неизвестное, чем все неизвестные места. Любое животное, гад ползучий, рак, любой придуманный монстр, любая галактика доступнее мне и ближе, чем я сам (банальная мысль?).
Годами стараешься кем-нибудь стать, и кем в конце концов становишься? Рекой событий в настоящем, бурным потоком фактов, имеющих место сейчас, той холодной минутой, которую ты переживаешь и которая не в состоянии напомнить хоть что-нибудь. Пучина — вот что твое. Ты даже попрощаться не можешь.
Двести долларов. Так и не появились, ни в Лас-Пальмасе, ни в Барселоне… И что теперь? Откуда мне взять деньги на оплату счетов и чаевые? Миллионерша!
Понедельник
Канны ночью, иллюминация, феерия. Только я сошел на берег, как прибегает девушка из агентства, вручает мне двести долларов (к счастью, миллионерша еще на судне одолжила мне немного денег).
Ночь в отеле. На следующий день (дождь) я несусь в «Мистрале» в Париж, горы, море, озера, долина Роны, поезд шумит, поезд летит, вагон-ресторан.
Париж в час ночи, гостиницы переполнены, наконец таксист привозит меня в отельчик, расположенный недалеко от Оперы и называющийся «Отель де л’Опера».
Открываю окно. С пятого этажа обвожу взглядом идиота улочку Эльдер — вдыхаю воздух, которым я дышал тридцать пять лет тому назад, открываю чемодан, достаю что-то, начинаю раздеваться. Ситуация крайне бездушная, абсолютно пустая, совершенно молчаливая и лишенная всего. Ложусь и гашу свет.
Среда
Сначала звоню Коте Еленьскому. Удивленный (он ожидал меня несколькими днями позже) взрывается приветствием. Но я: «Попрошу тебя, Котя, как ни в чем не бывало, сделаем вид, что мы знакомы давно и что виделись только вчера». Он пришел в гостиницу, мы пошли в кафе на углу, где он рассказывал сначала о разных проектах в связи с моим приездом… потом мы разговорились…
Так я познакомился с Еленьским, который, разрушив мою аргентинскую клетку, выстроил для меня мост до Парижа. И что? Тихо и глухо. Я вернулся в гостиницу.
Что это? Возможность возненавидеть Париж — возможность, которая навязалась ко мне как необходимость борьбы за существование, — уже проснулась в поисках пищи. Мне хватило тех прохожих, которых я увидел, пока сидел в кафе с Котей, французские акцент и аромат, движение, жест, выражение лица, костюм… во мне уже взрываются давно испытываемые антипатии. Неужели я становлюсь врагом Парижа? Стану ли я врагом Парижа? Я не первый день знал, что во мне скрыты истоки моей парижофобии, я знал, что этот город задевает самую чувствительную мою сторону — возраст, проблему возраста, и понятно, если я и был с Парижем не в ладах, то лишь потому, что он был городом «после сорока». Ох, говоря «после сорока», я вовсе не думаю о древности этих тысячелетних стен, я лишь хочу сказать, что этот город для людей, разменявших пятый десяток. Пляжи — место молодости. В воздухе Парижа чувствуешь сорок, даже пятьдесят, эти две цифры заполняют бульвары, площади, скверы.
Однако, если теперь это ощущение пронзило меня так остро, то не из-за его интеллектуального содержания, а потому что оно было отравлено поэзией. Именно поэзия толкала меня к столь резкому неприятию. На стене моего номера висела цветная гравюра, представлявшая тот участок Сикстинской капеллы, где Бог в образе старика прикосновением вдыхает в Адама жизнь. Я присмотрелся к Адаму, которому было лет двадцать, и к Богу, которому было за шестьдесят, и спрашивал себя: кого предпочитаешь — Бога или Адама? Двадцать предпочитаешь или шестьдесят? И этот вопрос показался мне безумно важным, более того — решающим, поскольку совсем не безразлично, какой идеал человека и человечества спит в тебе, какую красоту ты ищешь в роде человеческом, каким ты хочешь чтобы был этот человек. Человек — да, но в каком возрасте? Ведь нет одного-единственного человека. Какой человек для тебя правильный человек… самый прекрасный… в физическом, в духовном отношении самый совершенный? А может, ты ребенка сочтешь высшим достижением человеческой красоты? Может, старца? А может, ты думаешь, что все, что после тридцати или, например, моложе тридцати, — все это «хуже»? Всматриваясь в Бога и в Адама, я рассуждал, что самые прекрасные произведения духа, разума, техники, могут оказаться неудовлетворительными в силу единственной причины, что они являются выражением того человеческого возраста, который не в состоянии вызвать ни любви, ни восхищения, и тебе придется их отбросить как бы вопреки собственному мнению, во имя чего-то более страстного, связанного с красотой человечества. И, совершая маленькое святотатство, я отбрасываю Бога на той картине Микеланджело и выступаю на стороне Адама.
Я сделал это, чтобы выковать оружие против Парижа, поскольку как литератор я был обязан дистанцироваться от него. Странно это и прискорбно. Но красота иногда бывает во мне такой практичной…
В тот же самый день, вечером
Гувернантки? Гувернантки? Сначала мадемуазель Жанетт, потом мадемуазель Цвекк, швейцарка… обучавшие нас, детей, французскому и манерам… когда-то там, в Малошицах. Помещенные в свежий и шероховатый пейзаж польской деревни, как попугаи. Моя антипатия к французскому языку… не они ли привили мне ее? А Париж? Не он ли для меня сегодня одна гигантская французская гувернантка? Танцы легконогих мадемуазелей Жанетт и Цвекк вокруг Эйфелевой башни, на площади Оперы… не они ли летят над тротуарами?
Прочь, прочь, смешные нимфы, компрометирующие мою атаку на Париж!
[51]
Мезон-Лаффит. Я впервые вхожу в здание «Культуры». Передо мной появляется Гедройц. Перед Гедройцем появляюсь я.
Он: «Как я рад, что вижу вас…». Я: «Ежи, побойся Бога, не будешь же ты обращаться на вы к тому, кому уже много лет пишешь в письмах „ты“!» Он: «Хм… хм… действительно… ну, рад, что ты приехал». Я: «Какой дом! Приятно посмотреть!» Он: «Довольно просторный и удобный, хорошие условия для работы…» Я: «Ежи, честное слово, я уже наехал на Мицкевича, это не обсуждается, но у людей пропадает дар речи, когда они говорят со мной по телефону». Он: «Хм… я Мицкевича не особо люблю…»