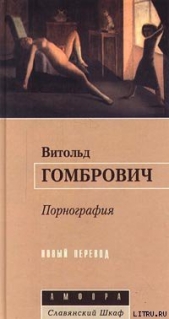Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Брезент и труба. Локоть. Матрос. Слуга. Ох, никакое чувство к бесповоротно удаляющейся не было возможно из-за нагромождения фактов… факты и факты… это была череда фактов, факты высыпали гурьбой, туча событий, они налетели на меня в моем отдалении, как саранча, я просто не мог отделаться от фактов, а при этом их бешеная активность стала причиной какой-то бешеной же их деградации, ничто не могло появиться (и существовать) на самом деле, потому что идущее ему вослед уже наступало ему на пятки, никогда я не был до такой степени пожираем фактами, хлопает брезент, пенится струя, игры и забавы, нитка и каблук. Глупость. Олух. Вынуть. Погасло. Прыжок. Силуэт. Шум. Бутылка. Молиться. Люлька. Кожура… и в шуме, в блеске, в движении вперед, в отдалении, в прибытии и отходе судна. Ох, как же меня изводило настоящее, как ослабляло! Мы проплывали северное побережье Бразилии, «Federico» шел со средней скоростью восемнадцать узлов при благоприятном бейдевинде [234]. Я смотрел на убегающую землю Америки. Прощай, Америка! К вечеру деградация фактов, о которой я говорил, фактов, высыпавших кучей и растворившихся в шуме, а к тому же укачанных, сливающихся и расплывающихся, стала все сильнее давать о себе знать, но я не был наверняка в этом уверен, сам будучи в шуме и качке, пожираемый удалением… но, пожалуйста, хотя бы такое происшествие, насколько я мог заметить, довольно даже бесстыдное, имело место, например, где-то после одиннадцати (причем не ночи, а утра, при свете дня) один из матросов, некий Дик Хартис, нечаянно проглотил конец тонкого такелажа, свисавшего с бизань-мачты.
В результате, как полагаю (но не могу утверждать это с полной уверенностью, потому что масса других фактов отвлекла мое внимание), в результате рефлекторной деятельности пищевода он стал быстро втягивать в себя эту веревку, люди глазом не успели моргнуть, как он въехал по ней на самый верх, точно фуникулер с широко открытым испуганным ртом. Перистальтика оказалась столь сильной, что было невозможно стянуть его вниз, даже после того, как двое матросов уцепились за его ноги. А надо добавить, что в то же самое время судно шло своим курсом и я удалялся… люди собрались, долго совещались, после совещания первому офицеру по фамилии Смит пришла идея применить рвотные средства, но тогда возник вопрос: как ввести это средство в рот, полностью забитый канатом? Тогда после еще более продолжительных совещаний (во время которых тучи происшествий прилетали и улетали, в шуме, в качке, сдерживавшей их лёт) пришли к выводу, что необходимо воздействовать через глаза и нос на воображение матроса.
И вот что произошло (сцена глубоко врезалась в мою память, так глубоко, как только может врезаться неумолимо удаляющаяся сцена). По приказу офицера один из матросов взобрался на мачту и представил пациенту на тарелке порцию крысиных хвостов. Несчастный смотрел на них вытаращенными глазами, но лишь когда к хвостам добавили маленькую вилочку, ему сразу же вспомнились макароны его детских лет, и он, блюя, съехал на палубу так быстро, что чуть не сломал себе ноги. Я, признаюсь, предпочел не слишком рассматривать эту сцену, которая в своей искрометности была ослаблена и замирала, похожая на полувыцветшие цветные гравюры откуда-то из сундука, с чердака, сама по себе выразительная, но какая-то такая, будто смотришь на ее как через закопченное стекло.
Вторник
Порвалась наша связь с американским континентом. Трансатлантический лайнер в открытом Атлантическом океане переходит экватор, целясь носом в Европу.
Любопытство? Возбуждение? Ожидания? Вовсе нет. Ждущие меня там друзья, которых я до сих пор в глаза не видел: Еленьский, Гедройц, Надё? Нет. Париж через тридцать пять лет? Нет. Я не хочу познавать. Я лавочку закрыл и свой итог подвел.
Брожу… и все, о чем бы ни подумал, в ту же самую секунду становилось хоть немного, но дальше. Мысль моя за мною, а не передо мной.
Телеграмма от Коти Еленьского, что собираются прислать мне двести долларов. Но до сих пор денег нет. Может, в Лас-Пальмасе?
Скучно, ни одного интересного лица. Шахматы. Я выиграл конкурс, получил медаль и стал чемпионом судна по шахматам.
Достижение смерти движением вспять? (не доверяю таким «мыслям»).
Среда
Архитектура.
Безостановочно возводимый кафедральный собор… Я строю это здание и строю… не имея возможности взглянуть на него со стороны. Иногда, в исключительных случаях… я будто различаю на мгновенье что-то… связь сводов, арок, какой-то элемент симметрии… Иллюзии?
В 1931 году… разве мог я тогда знать, что моей судьбой станет Аргентина? Это слово никогда не являлось мне в предчувствиях.
И тем не менее именно тогда я написал рассказ «Происшествие на бриге „Бэнбури“». И в этом рассказе я плыву в Южную Америку. Моряки поют:
Эта вещица удивительным стечением обстоятельств была пару месяцев назад переведена на французский и, возможно, уже в эту самую минуту была в парижском «Прёв». К ней, стало быть, плыву.
Иллюзии! Миражи! Ложные связи! Никакого порядка, никакой архитектуры, тьма в моей жизни, в которой не проступает ни единый настоящий элемент формы, а ведь сегодня меня атакуют целые фрагменты этого рассказа, призраками всплывающие в воспоминании. «Фантазия, словно спущенная с цепи злая собака, скалила зубы и глухо ворчала, прячась по углам». «Ум мой слаб. Ум мой слаб. И из-за этого стирается различие между вещами…». «Палуба стала абсолютной пустыней. Море резко вспенилось, ветер дул с удвоенной силой, по сумрачным водам сновал разъяренный кит, неутомимый в своем круговом движении».
Хочу еще заметить, что «встреча» произошла сегодня на рассвете, на северо-востоке от Канарских островов. «Встречу» забираю в кавычки, потому что слово это неполноценное…
Ночью мне не спалось, я вышел на палубу до рассвета и долго пробивался взглядом через темноту к той вещи, на которую всегда можно смотреть, — к воде, увидел огоньки нескольких судов, шедших к Африке… в конце концов не скажу, что ночь прояснилась, но пропала, размякла, сама себя поглотила, вдруг то тут, то там стали появляться белые сгустки, которые во все более суровом безразличии к грядущему рассвету повыползали точно вата, и море заполнилось этими белыми айсбергами облаков, меж которых я увидел то, на что можно смотреть вечно, — воду, белопенные волны. Внезапно из белых пелен выплыло нечто тоже белое, с большой белой трубой, которую я сразу разглядел на расстоянии каких-то трех-четырех километров. Выплыло и сразу скрылось в клубах тумана, снова вынырнуло, правда, я уже не смотрел на него, все больше на воду смотрел… хорошо зная, что ничего этого нет, предпочитал не смотреть, но несмотренье мое как бы даже подтверждало его присутствие. Интересно получилось: несмотрение стало разновидностью смотрения. Я также предпочел не думать и не чувствовать, поскольку не испытывал ни малейшего желания напрасно думать и чувствовать. Но интересно, что недумание и нечувствование могут стать разновидностью чувствования и думания. Между тем явление проплывало — но проплывало в фантасмагории растрепанных клубов чуть ли не с оперным пафосом, как убитый брат, брат умерший, брат немой, брат потерянный навсегда и ставший безразличным… нечто такое обнаружилось и воцарилось в отчаянии глухом и абсолютно онемевшем среди белых клубов.
Наконец я подумал о себе на другом судне, и что для него я здешний, являюсь, видимо, точно таким же призраком, как и он для меня.
Потом вроде как вспомнилось мне, что в сущности, много лет тому назад, плывя на «Хробром» в Аргентину, ночью, недалеко от Канарских островов я тоже не мог заснуть и выходил на палубу, чтобы смотреть на море… и чего-то искал… Я немедленно убрал это воспоминание, ибо заметил, что фабрикую их теперь из соображений, как мы уже сказали, архитектуры. Что за наваждение: смотришь в стеклянный шар, в стакан воды, и даже из их пустоты что-нибудь да выглянет, вроде как форма какая-то…