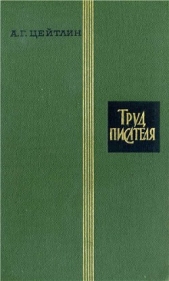Явление. И вот уже тень
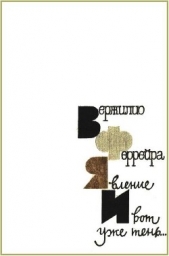
Явление. И вот уже тень читать книгу онлайн
Вержилио Феррейра — крупнейший романист современной Португалии. В предлагаемых романах автор продолжает давний разговор в литературе о смысле жизни, ставит вопрос в стойкости человека перед жизненными испытаниями и о его ответственности за сохранение гуманистических идеалов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет, друг. Не для тебя, не для такой тучной флегмы, как ты, то, что я хотел сказать. Где же остатки твоего божественного сияния, где скрытый огонь твоего явления? Где он затерялся, друг? В каком тайнике твоего монолита? Я утраченное эхо твоей пустыни. А ты, бедняга Рябенький, с раскрытыми от изумления глазами, выходит, только ты и слушаешь меня? Но о чем я в конце концов, о чем? О том, что нет ничего глупее ярости и одиночества? Я докопался до главного в жизни, до очевидности того, что я есть. И говорю, говорю. Сгораю от энтузиазма, сотрясаю воздух. Но может, именно так слова лучше дойдут, ведь раскаленное железо поражает не тем, что оно железо, а тем, что оно добела раскалено..
— Открытие, о котором я предлагаю прочесть лекцию, — не такое простое, — твердо говорю я. — Я еще не рассказал вам о человеке, который повесился?
— Я знаю об этом от Моуры, — бросил Шико.
— А что, что случилось? — спросил Рябенький с характерной для этих мест певучей интонацией, которая делала его голос голосом совсем маленького ребенка.
— Несколько дней тому назад, когда мы с доктором Моурой ехали к больному, на дороге нас остановил один человек. Он жаловался доктору, что его рука уже не та, что раньше, чтобы сеять хлеб, и просил лекарство. А когда мы возвращались от больного все по той же дороге, то узнали, что человек этот повесился.
Рябенький раскрыл рот и вытаращил глаза.
— Необходимо предупредить подобные неожиданности. Увязать, согласовать жизнь со смертью. Найти между ними гармонию. Но найти ее после того, как мы поймем, что такое жизнь и что такое смерть, после того, как мы проникнемся их реальностью. Знал ли этот человек, какое чудо он уничтожает? А вот я знаю.
— А как это узнать, сеньор доктор? — спросил меня Каролино с той же самой певучей интонацией, которая сбивала с мысли.
Тут засветившийся в глазах парнишки интерес подстегнул мое желание раскрыть истину. Я повернулся лицом к Рябенькому и стал говорить ему, только ему:
— Почему ночью среди тишины тебя пугает твой собственный голос? Ты никогда не пробовал ночью что-нибудь громко сказать?
— Нет, никогда, сеньор доктор, — ответил он фальцетом.
А нужно попробовать. В объятьях ночной тишины мы испытываем такое чувство, будто нас не существует. А существуют только вещи, как абсолют мира. Вселенная ждет прихода первого человека. И вдруг мы кричим: «Я есть, я живу!» И разговариваем сами с собой, задаем себе вопросы. Тут горло перехватывает от ужаса: «Кто я? Кто рядом со мной?» Голова идет кругом. Такое впечатление, что рядом призрак, — он внутри нас самих, он нечто большее, чем мы, он говорит нашим языком, смотрит нашими глазами. Ведь не боятся говорить сами с собой только сумасшедшие: мир для них не существует, а существует их сумасшествие. Вот почему, если вдруг мы заговорим сами с собой, мы чувствуем себя сумасшедшими, утратившими связь с миром. И тогда уже не существует ни комнаты, в которой мы находимся, ни книг, ни ночи, а только мощный, действующий внутри нас вулкан, дыхание того бога, который живет в нас, этого чудовища, которое дремлет в глубинах нашего «я».
Вдруг зазвонил телефон. Шико тяжело поднялся, снял трубку:
— Как ты? Да… Нет, нет… Ну так фун… Ну так фунда… Нет, я же тебе уже сказал, фундамент никуда не годен… — Когда он положил трубку, то обратился ко мне: — Ну продолжайте, учитель…
Нет, железобетонный человек. Ты меня не понимаешь, и я тебя не понимаю. Я говорю только для Рябенького.
— И еще один случай, — сказал я. — Однажды, когда я был маленький…
И я рассказал. Мы сидели на обращенной к востоку веранде нашего дома. Отдыхали. Ушедший день был очень жарким. Из-за горы вот-вот должна была подняться луна, и мы молча ждали ее появления. Говорил только отец, он опять излагал мне историю светил, которую я хорошо помнил: Антарес, Альтаир, Денеб — красные гиганты, их орбиты в огромном пустом пространстве. Тут взошла луна. Я сидел на полу, но мне очень хотелось лечь на спину, чтобы лучше видеть звезды, и мать послала меня за пледом и подушками, которыми мы пользовались в саду. Дверь в комнату была открыта, в одно из окон заглядывала луна. Склонившись, я стал искать стул, на который обычно мать их складывала. Когда я выпрямился, то увидел какую-то фигуру.
Я закричал и, бросив все, выскочил из комнаты и растянулся в коридоре. На крики прибежали мать, отец, братья, слуги, тетя Дулсе. Тут я сказал:
— У меня в комнате вор.
Мать взяла из рук служанки лампу, и все пошли следом за ней. Но, обыскав все углы при свете лампы, мы вора не нашли.
— Ну и воображение! — сказала мать.
Выговор за мое воображение получила тетя Дулсе. Воспользовавшись случаем, отец обрушился на нее за те истории, которые она нам рассказывала и которые чаще всех любил слушать именно я. И даже не столько в детстве, как чуть позже, когда уже учился и приезжал на каникулы домой и, копаясь в захламленных углах чердака или подвала, находил там ушедшее прошлое — журналы, фотографии, и, пожалуй, не такие старые, потому что на них был и я, но для меня они уже были далеким прошлым.
Неожиданно отцу пришла в голову догадка:
— Ну-ка, ну-ка, где ты видел вора?
— Там.
— Встань-ка туда, где ты стоял, и посмотри вперед.
Я посмотрел вперед. Прямо перед собой я увидел себя самого. Увидел в зеркале платяного шкафа. Отец покровительственно положил свою руку на мою голову. Мать опять принялась сокрушаться моей фантазией. А Эваристо рассмешил всех тем, что, встав перед зеркалом, стал изображать испуг.
— Вор! Вот он, вор!
Мы вернулись на веранду, а тетя Дулсе в залитую лунным светом залу, где, поминая свои обиды, молилась, глядя в окно. Луна теперь плыла высоко в небе. В безмолвии ночи пели кузнечики и сверчки. Но жаркое дыхание дня еще ощущалось. Я же никак не мог отделаться от пережитого страха и того, что тот, кто меня напугал, был не кто иной, как я сам.
Перед сном отец сказал мне:
— Сегодня ты ляжешь спать один. Ты же мужчина.
С тех пор мы всегда спали каждый в своей комнате. Я справился с обязанностью быть мужчиной — лег спать в комнате один, но, правда, старался не смотреть в зеркало. Однако на следующий же день, как только поднялся, я встал на то злополучное место перед зеркалом и посмотрел в него. Из зеркала на меня смотрела личность, вполне самостоятельная, наделенная индивидуальностью, и эта индивидуальность жила во мне, а я ее не знал. Завороженный, я подошел поближе и стал рассматривать себя. Я видел, видел глаза, лицо того, кто жил во мне, кто был мною и кого я никогда себе не представлял. Впервые меня взволновала эта живая реальность, которой был я, это живое существо, которое жило во мне и до сих пор не вызывало к себе интереса и в котором теперь я открывал нечто особенное, что меня завораживало и пугало. Сколько раз позже я пытался вызвать и удержать это поразительное явление мне моего «я», этого загадочного существа, которым был я сам и которое так никогда больше не объявлялось.
Я умолк. По мостовой прогромыхала запоздалая телега. За окнами чернел погрузившийся в ночь сад. Я представил себе недавно поставленный в саду бюст Флорбелы [8] и подумал, что Флорбеле должно быть грустно. Шико слушал мой рассказ, покуривая. Каролино же, потрясенный, так и не закрыл рта. Наконец инженер сказал:
— Все это, учитель, очень печально.
— Печально? Почему же?
— Да потому, что вы предлагаете открыть уже давно открытую Америку.
— Открыть Америку?
— Конечно, ведь человек знает, и довольно давно, что существует.
— Это не совсем так. И что же он, по-вашему, знает? Истина-то как раз в том, что и сегодня он ничего не знает. Уверен.
Шико выпрямился, выпятил грудь. Это было ужасно. Он как бы чувствовал свое физическое превосходство.
— Мы живем в прекрасное время, — сказал он, — и единственное, за что мы должны бороться, — за право каждого быть сытым.
— А разве я утверждал, что человек должен голодать? Но если бы во все времена думали бы только об экономических улучшениях, мы бы уже были не люди, а машины. Мой гуманизм — это не только кусок хлеба для каждого, но сознательность и изобилие.