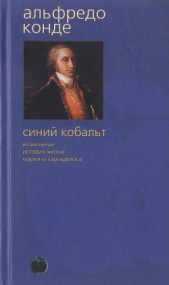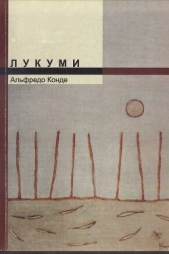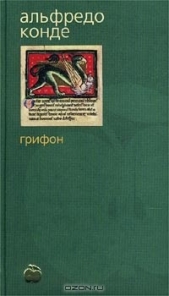Ноа и ее память

Ноа и ее память читать книгу онлайн
Альфредо Конде известен в России романами-загадками «Грифон» и «Ромасанта. Человек-волк». Вниманию читателя предлагается новое произведение, написанное в 1982 году и принесшее автору мировую известность, — «Ноа и ее память». Необычность стиля и построения сюжета снискали ему массу поклонников, а глубина анализа чувств главной героини ставит роман на один уровень с мировой классикой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я готова признать, что моя память слишком избирательна и что где-то в далеком ее уголке, куда не могут добраться способные вызволить ее чувства, прячутся какие-то мелкие события, которые не дано зафиксировать моему сознанию. Возможно, виной этому мягкое сероватое утро, вялая серость, обволакивающая меня морской влагой, солнце, что иногда прорывается сквозь облака и дарит мне тепло; но такова моя память, и таков этот день, дарящий мне воспоминания, навсегда остающиеся теперь в моей памяти. Такова и картинка, которая вспоминается мне сейчас и навсегда останется теперь такой в памяти; вот запечатленная в моем сознании сцена: мы втроем на веранде, освещенные тем же, что на картине, светом заходящего солнца, и мы поднимаем наполненные вином бокалы за наступающий вечер, мы поднимаем альбариньо {12} к свету, чтобы оно стало еще более золотистым.
Дом Педро был удивительным, дух его отца витал в галереях, где громоздилось множество ненужных вещей, экзотической посуды, замысловатых перегонных аппаратов, необыкновенных кукол, а также китовый ус, акульи зубы, чучело слоновьей ноги, лук и стрелы, принадлежавшие когда-то, судя по всему, ирокезам, мараки {13} и еще бог знает какие музыкальные инструменты, которым не так-то просто дать название, еще сложнее понять, как ими пользоваться, и совсем неизвестно, какие звуки из них можно извлечь. Каждая комната таила в себе встречу с удивительным, полным приключений и праздности прошлым, оставившим безошибочный след своего присутствия в каждом из помещений дома моего двоюродного дедушки, которое Педриньо дополнил своим богемным беспорядком, запахом скипидара, прислоненными к стенам картинами, валяющимися на полу недоеденными бутербродами… Эффект был удивительным: вдвоем отец и сын сумели нагромоздить там весь тот хлам, что имеет хоть какое-то название, а еще и тот, что даже имени не имеет, весь бесполезный хлам, что только существует на свете, все, что могло бы напомнить и вновь вернуть им события, которые они пережили так интенсивно, так поразительно. Педро брал слоновью ногу и рассказывал одну из историй своего отца, в которой участвовали очаровательные негритянки, красочные колдуны, танцы в полнолуние. Педро поглаживал челюсть акулы, и Карибское море дарило ему весь свет зари на мысе Сан-Антонио, между Юкатаном и Кубой, и можно было не только услышать, но и увидеть все то, о чем он рассказывал; он говорил о китовых усах, и океанская полярная белизна заполняла комнату приключением, уже ставшим семейным преданием, которое, казалось, пережил и сам рассказчик, путая в этом случае себя со своим отцом. Эти истории, повторяемые без конца, прекрасные и чарующие, страшные и возвышенные, необыкновенно простые и необыкновенно сложные, становятся в конце концов достоянием всего семейного клана, и все члены семьи рассказывают их как нечто с ними самими приключившееся, ими пережитое. В каждой комнате существовал целый мир, внесенный туда сведущими в искусстве жизни руками, крепко ухватившими мимолетные грезы, дабы удержать их и сохранить: тирольские колокольчики, русские матрешки, дудочки Андского нагорья, лассо аргентинских гаучо, трубки для курения опиума и маленькая бальзамированная голова хибаро {14}, заставлявшая тебя дрожать от ужаса, когда ты брал ее в руки. Таким был дом моего двоюродного дедушки Педро, таким был дом моего дяди, прибавившего к этому миру свой собственный, спасший его мистицизм, искупительную музыку, полную беззаботность. Я представляла себе своего двоюродного деда человеком безупречно аккуратным, искателем приключений — да, несомненно, но также и врагом беспорядка, способным поместить ногу слона рядом с ночным горшком и сохранять такое расположение вещей до конца дней своих, коль скоро он полагал, что эти воплощения его грез, а с ними и сами грезы должны стоять именно так, как он их поставил; и когда он смотрел на них, в его воображении смешивались охота на слонов с парижской ночью на левом берегу Сены и кокоткой из Лидо, у которой он позаимствовал столь необыкновенный сувенир. И он наверняка требовал, чтобы с его вещей ежедневно стирали пыль, не сдвигая их при этом с места: там они стояли и всегда будут стоять. И так было во всем доме. Но Педро, мой дядя Педро, позаботился о том, чтобы с них никогда уже больше не стирали пыль, внес беспорядок в их расположение и дополнил его газетными вырезками, сваленными на полу книгами, грязными тарелками и парой сиамских котов, которым нравилось точить когти о слоновью ногу. И я почитала мир Педро.
В этом доме, в этом мире, я провела, словно во сне, осень, последовавшую за смертью мамы. Лишь немногие события в моей жизни вызывают во мне более нежные и безмятежные ощущения. Мы ложились поздно, вставали поздно, обедали не дома, гуляли, я читала, слушала музыку, позировала дяде, который иногда, не предупредив меня и ничего не объяснив, запирался на один или два дня, чтобы писать; тогда я обходила места, видевшие, как бегала здесь моя мама в годы ее детства; я садилась на скамейки, на которых когда-то сидела она, или ходила в гости к ее подругам, которые, как мне казалось, вспоминали ее с любовью и уважением. Извещение, опубликованное Педро в местной газете, совершенно четко определило мое положение в В.: кто-то одобрял то, что я сделала, а кто-то осуждал это как глупый и никчемный акт высокомерия, как бесстыдство, угрожающее ценностям, закрепленным в веках. Нет надобности говорить, что дедушка и бабушка придерживались второго мнения.
В один из приступов художнической лихорадки Педро я решила навестить их, ничего ему об этом не сказав, и направилась к дому с низким каменным балконом, преисполненная всей той нежности, какую только смогла в себе отыскать. Дверь мне открыла девушка моего возраста в черном платье, белом чепчике и таком же переднике, и я вошла в дом, не допуская, чтобы меня заставили дожидаться у дверей или спросили, что мне угодно, кто я, чтобы мне сказали, что нужно подождать, что она сейчас доложит и тотчас вернется. Я вошла, сказала «здравствуйте!» и потребовала, чтобы служанка известила своих хозяев, что я здесь, или же чтобы она сказала мне, где они, и я пройду прямо туда, и пусть она не беспокоится; все это я выпалила одним махом, не переводя дыхания и не ожидая ответа. Девушка поколебалась и наконец закрыла дверь; потом тонким голоском сказала мне, что господа сейчас на веранде. Дом был мне не знаком; правда, моя мать часто рассказывала мне о расположении комнат и лестниц, о том, какой была та или иная комната, но в то мгновение я ничего не помнила. Я наугад пошла вперед, и, когда девушка сказала мне, что я иду не туда, я воскликнула: «Ой, какая же я глупая!» — и тут же исправила свою ошибку.
Они действительно были на веранде. Когда они увидели, что я вторгаюсь в их уединение, лица их напряглись, на них одновременно появилось одинаковое выражение, лишенное какой-либо нежности. «Как это ты здесь вдруг?» — сказала мне бабушка. «Я пришла в дом своей матери, вы мои бабушка и дедушка, мы не чужие», — ответила я. «Все равно так не делают», — изрек старик. Я тотчас же пожалела о своем решении навестить их, резко сделала пол-оборота и ушла туда, откуда пришла.
Придя домой, я не смогла сдержаться и, прервав работу Педро, бросилась в рыданиях к нему на грудь и рассказала, что произошло. Он молча выслушал меня и, когда я закончила, подтвердил, что я была права в обоих случаях: во-первых, придя туда, и во-вторых, уйдя оттуда. Таков был Педро, и именно поэтому я любила его. Затем он внушил мне, что скоро они сами позовут меня, и тогда он пойдет вместе со мной. Так и случилось. Долгие часы я ждала, пока исполнится пророчество; хотя мне это было неприятно, я должна была узнать свою семью, узнать, что они знают обо мне. Меня несколько успокаивало то, что они узнали меня, едва только я появилась на веранде, но меня беспокоило то обстоятельство, что им даже в голову не пришло поцеловать меня или изобразить хотя бы подобие улыбки, хоть что-нибудь. Прежде я всегда жила в стороне от семьи моей матери, но теперь, когда ее уже не было, мне показалось, что исчезло последнее препятствие к тому, чтобы я могла стать тем, кем должна была быть. Эта мысль заставляла меня плохо, просто отвратительно думать о себе все то время, пока я ждала, чтобы они меня позвали, но именно эта мысль дала мне силы, когда, поразмыслив, я гораздо глубже оценила поведение моей матери, ее мужество, ее цельность; моя мать не только не была препятствием, она была тем, что в конечном итоге ставило меня выше их. Именно с таким убеждением предстала я вновь перед дедушкой и бабушкой, потому что они действительно позвали меня, и я пошла к ним в сопровождении Педро. Мы пришли, та же девушка открыла нам дверь и провела в кабинет, где они нас ожидали. Мы сели, поцеловавшись без особой сердечности, и тут же вошла девушка с подносом, на нем были пирожные и свежезаваренный чай: чашечки из английского фарфора уже были расставлены на маленьком столике, который девушка тут же услужливо к нам пододвинула. Мы пили чай с пирожными и весьма рассудительно беседовали обо всяких пустяках — о чем, не помню. В заключение мы вежливо распрощались, я попросила, чтобы они поцеловали от моего имени мою тетю, путешествовавшую по привычке, которую она приобрела с тех пор, как Педро решил отправиться умирать в картезианский монастырь, и которой неуклонно с тех пор следовала; она отправлялась в путешествие и приезжала обратно умиротворенная, безмятежная, помолодевшая, сохраняя такое состояние на ближайшие три или четыре месяца. Мы договорились, что время от времени я буду приходить к ним и что проведу у них одни из ближайших каникул; но все это было сказано без особой убежденности и готовности.