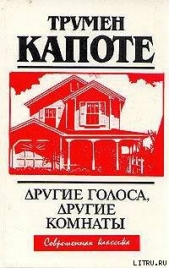Затмение

Затмение читать книгу онлайн
Классик современной ирландской литературы Джон Бэнвилл (р. 1945) хорошо знаком русскому читателю романами «Афина», «Улики», «Неприкасаемый».
…Затмения жизни, осколки прошлого, воспоминания о будущем. Всего один шаг через порог старого дома — и уже неясно, где явь, а где сон. С каждым словом мир перестает быть обычным, хрупкие грани реальности, призраки и люди вплетены в паутину волшебных образов…
Гипнотический роман Джона Бэнвилла «Затмение» — впервые на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Сын добыл завещание старика и сжег его… — вещал Квирк доверительным хриплым шепотом, прикрыв один глаз и важно кивая. — И это, конечно, досталось бы ему… — Он вытянул дрожащий костлявый палец и постучал им по верхней странице. — Вот, видите?
— Да, — честно солгал я.
Он подождал, изучая меня, и наконец вздохнул; нет, не удовлетворил я жажду увлеченного человека поделиться своим хобби. Квирк уныло отвернулся, мрачно уставился невидящими глазами в окно, на сад. День отступал, и солнечный свет окрашивался в медные тона. Девчонка лениво подтолкнула бедром Квирка, и он быстро заморгал:
— Да, чуть не забыл… Это вот Лили. — Она скривила губы в безрадостную улыбку и сделала шутовской реверанс. — Вам ведь потребуется помощь по дому. Она уж позаботится обо всем.
Досадуя и скорбя, он собрал документы, сложил в коробку, закрыл ее и перевязал черной шелковой лентой. Я снова отметил проворство и гибкость его по-девичьи нежных пальцев. Он вытащил из кармана велосипедные зажимы, нагнулся и, кряхтя, прихватил ими брюки, а мы с девочкой рассматривали его макушку, сальные песочные волосы, поникшие плечи, запорошенные перхотью. Так родители смотрят на некрасивого сына-переростка, которым совсем не гордятся. Квирк выпрямился, на секунду живо напомнив дворцового евнуха своей нездоровой бледностью, шароварами, белыми носками и туфлями с загнутыми мысками.
— Ну, я пошел, — сказал он.
Я проводил Квирка до двери. Его велосипед валялся у фонаря, словно комик, изображающий пьяницу: кверху передним колесом, руль искривлен. Квирк выпрямил руль, водрузил на багажник коробку с документами, угрюмо сел и покатил прочь. У него оказалась своеобразная манера езды: он сидел на задней части седла, согнув плечи и выпятив брюхо, рулил одной рукой, а другая расслабленно лежала на бедрах. Колени двигались, словно поршни на холостом ходу. На середине площади он притормозил, коснулся земли вытянутым носком, будто танцор, и оглянулся; я помахал ему; он поехал дальше.
На кухне Лили с медлительностью сомнамбулы мыла посуду. Не очень-то симпатичный ребенок, да и чистюлей ее с виду не назовешь. Когда я вошел, она даже не подняла головы. Я прошел через кухню и сел за стол. Масло на тарелке уже растеклось жирной творожистой лужицей; ломоть черствеющего хлеба с живописно загнутыми краями походил на створку раковины. Молоко и пакет с яйцами лежали там же, где их оставили. Я посмотрел на длинную бледную шею девочки, крысиные хвостики бесцветных волос. Откашлялся, побарабанил пальцами по столу.
— А скажи-ка мне, Лили, — начал я, — сколько тебе лет?
Откуда у меня такие масляно-льстивые нотки в голосе, словно я хитрый старый повеса, что пытается усыпить девичью бдительность?
— Семнадцать, — не раздумывая, ответила она; на самом деле, конечно, гораздо меньше.
— А ты в школу ходишь?
Она неровно пожала плечами, правое задралось, левое опустилось.
— Когда-то ходила.
Я встал, подошел к Лили и прислонился к сушилке для посуды, скрестив руки и ноги. Поза и стиль — вот что главное. Если вы освоили их, значит, войти в роль не составит труда. Руки Лили, погруженные в горячую воду, покраснели до запястий, будто она натянула розовые хирургические перчатки. Пальцы, как и у Квирка, тонкие, изящные. Она перевернула кружку всю в перламутровой пене, поставила на сушилку. Я мягко заметил, что, наверное, лучше сначала смыть пену. Лили застыла на мгновение, пялясь в раковину, затем медленно повернула голову и одарила меня таким мертвенным взглядом, что я отступил. Неторопливо взяла кружку, сунула под воду и снова водрузила на сушилку. Я поспешно проковылял к столу, растеряв весь свой апломб. Как этим юнцам удается выбить нас из колеи одним-единственным взглядом, гримасой? Тем временем Лили закончила мыть посуду и вытерла руки тряпкой. На пальцах у нее желтели пятна от табака.
— Знаешь, у меня есть дочь. — Я говорил сейчас, словно умильный шепелявый старый болван. — Она старше тебя, Катрин. Мы зовем ее Касс.
Лили словно ничего не услышала. Я наблюдал, как она укладывает все еще мокрые чашки и блюдца; как быстро находит, куда их поставить, очевидно, женский инстинкт. Разделавшись с посудой, она постояла, рассеянно озираясь, повернулась, чтобы уйти, но передумала и, словно вспомнив о моем существовании, взглянула на меня и сморщила нос.
— А вы и правда такой знаменитый? — с лукавым недоверием спросила она.
Мне всегда казалось унизительным, что минуты позора в молодости продолжают причинять ничуть не притупившуюся боль и в зрелости. Разве мало того, что ошибки омрачают нам существование в нежном возрасте? Нет, они остаются с нами на всю жизнь, словно незаживающие ожоги, саднящие при малейшем прикосновении. Неблагоразумные поступки юности заставят и девяностолетнего старца покраснеть от стыда на смертном одре. Настало время и мне разбередить одну из старых ран, воспоминания о которой я предпочел бы похоронить в холодной тьме забвения. Я начал свою карьеру не с роли современного бескомпромиссного героя в какой-нибудь авангардной постановке, на сцене в подвале, куда едва помещалось два десятка зрителей, а на подмостках любительского театра своего родного города, где в зале с хорошей акустикой мне, разинув рты, внимали обыватели. Спектакль представлял собой сельскую драму, которые были еще популярны в те годы. Пасторальные пейзажи, где старые склочницы, укутанные в шали, плачутся возле фальшивых торфяных костров о потерянных сыновьях. Я до сих пор краснею, вспоминая премьеру. Комические реплики публика встречала уважительной тишиной, а трагические эпизоды вызывали приступы веселья. Когда наконец занавес опустился, за кулисами воцарилась атмосфера операционной, где только что зашили, перебинтовали и увезли последнюю жертву стихийного бедствия. А мы, актеры, стояли вокруг, словно легко раненные, сочувственно пожимали друг другу руки и судорожно сглатывали.
Хотелось бы, конечно, сказать, что мы были колоритной труппой обаятельных головорезов и покладистых местных красавиц, но не могу: на деле мы являли собой убогую кучку бездарей. Трижды в неделю собирались на репетиции в выстуженной церкви, которую предоставил нам приходской священник, завзятый театрал. Я исполнял роль младшего брата главного героя, чувствительного юношу, который собирался стать учителем и открыть сельскую школу. Я и не думал, что справлюсь с задачей, пока Дора не вытащила меня за руку под свет рампы. Дора — первая снизошедшая ко мне муза. Приземистая, грубовато сложенная, с жесткими короткими волосами и в очках с розовой пластмассовой оправой. Помню возбуждающий запах здоровой плоти, который не могли перебить даже самые крепкие духи. Она пришла к нам в труппу, как я полагаю, в поисках мужа, а вместо этого связалась со мной. Мне тогда исполнилось семнадцать, а ей было не больше тридцати, но я считал ее чересчур старой, каким-то антиподом матери, приземленной и чувственной. И это возбуждало. Мне казалось, что она меня не замечает, пока одним ненастным октябрьским вечером, после рано закончившейся репетиции Дора не пригласила меня в паб. Мы покидали церковь последними. Она облачалась в дождевик и не смотрела в мою сторону. Бывает, замечаешь, как работает память — откладывает на будущее мелкие детали. Дора сражалась с непослушным рукавом, а я следил за маслянистым бликом на полиэтилене дождевика; в углу потрескивала керосиновая печка, и пламя на фитиле беспорядочно металось от сквозняка. Дверь в вестибюле хлопала на ветру, и через щель виднелись то черные деревья, то зигзаг расплавленного серебра молнии, рассекающей грозовое небо на западе. Наконец она справилась с рукавом, посмотрела на меня, криво улыбнувшись и вызывающе приподняв бровь: такие женщины, как Дора, всегда готовы, что им откажут.
В синевато-багровых сумерках мы молча направились к причалам, где покачивались на волнах пришвартованные траулеры, а на маяке беспрестанно звонил колокол. Дора уставилась на дорогу, и меня охватило подозрение, что она еле сдерживает смех. В пабе она взгромоздилась на высокий табурет и, скрестив ноги, оголила свои блестящие колени. Заказала джин с тоником и позволила мне дрожащей рукой поднести огонек спички к ускользающему кончику ее сигареты. Я никогда не бывал в пабе, не заказывал напитков и не давал дамам прикуривать. Когда я пытался обратить на себя внимание бармена, то заметил, что Дора откровенно разглядывает мое лицо, руки и одежду. Я повернулся к ней, но она не отвела взгляд, только вздернула подбородок и продолжала смотреть, пристально, бесстыдно и насмешливо. Я уже не помню, о чем мы беседовали. Она курила по-мужски: глубоко и сосредоточенно затягиваясь, сутулясь и прищуриваясь. Ее полную грудь и бедра туго обтягивало короткое серое платье. Сигаретный дым и сладковатые пары джина начали на меня действовать. Захотелось положить руку ей на колено, и я уже почти чувствовал шелковистую ткань чулка. А Дора все смотрела мне в лицо с той же вызывающей полунасмешливой улыбкой. Я смутился и старался избегать ее взгляда. Дора опрокинула в себя остатки джина, поднялась, надела дождевик и заявила, что ей пора. Уже в дверях паба она остановилась, как бы давая мне время для… сам не знаю, для чего. Когда она отвернулась, я, кажется, уловил ее разочарованный вздох. Мы расстались у пристани. Я стоял и смотрел, как она уходит в темноту, склонив голову и съежившись от холода. Ветер с моря налетал на нее, трепал кудряшки, дождевик облеплял тело. Стук ее высоких каблуков по мостовой вызвал ощущение, будто кто-то шагает по моему позвоночнику.