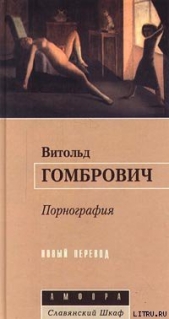Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А далее — задавая, вроде как бы предлагая вопросы, более или менее связанные со мною, я вхожу в них, и они ведут меня к другим, пока неизвестным для меня тайнам. Уйти как можно дальше на девственные ареалы культуры, зайти в ее полудикие пока, а стало быть неприличные, места, и, возбуждая вас до непристойности, возбудить и себя… Ибо я хочу встретиться с вами в этих кущах, соприкоснуться с вами самым трудным и неудобным — и для вас и для меня — способом. И потом — разве я не должен выделиться из общей европейской мысли, разве те направления, доктрины, на которые я похож, не являются моими врагами? Мне надо напасть на них, чтобы заставить себя быть своеобразным, а вас — заставить это своеобразие подтвердить. Далее — открыть моё настоящее, установить с вами контакт в сегодняшнем дне.
В этом дневничке я хотел бы недвусмысленно приступить к конструированию для себя таланта — столь же недвусмысленно, как Хенрик в третьем акте [37] фабрикует для себя венчание… Почему — недвусмысленно, явно? Потому что, выявляя себя, я стремлюсь перестать быть для вас слишком легкой загадкой. Уводя вас за кулисы моего существа, я заставляю себя уйти еще глубже.
Всё это — если бы мне удалось призвать дух. Но я не чувствую себя в силах… Вот уже три года, к сожалению, как я разошелся с чистым искусством, поскольку я не из породы тех, кого можно воспитывать, разложив на колене или по воскресеньям и в праздники. Я приступил к написанию этого моего дневника просто ради того, чтобы спастись, от страха перед деградацией и окончательным погружением в волны тривиальной жизни, которые уже достают мне до рта. Но оказывается, что и здесь я не способен сделать полноценное усилие. Невозможно всю неделю быть никем, а в воскресенье вдруг стать кем-то. Журналисты и вы, господа советники и уважаемая публика, у всех у вас нет ни малейшего повода для опасений. С моей стороны вам не угрожает ни высокомерие, ни непонимание. Как и вы, я вместе со всем миром скатываюсь в публицистику.
Суббота
Мое отношение к Польше берет начало в моем отношении к форме: я хочу увернуться от Польши точно так же, как я хочу увернуться от формы, я стремлюсь взлететь как над Польшей, так и над стилем — и здесь и там одна и та же задача.
Иногда я чувствую себя Моисеем. Забавна, ей-богу, в моем характере эта склонность к преувеличениям в том, что касается меня. В мечтах я пыжусь, надуваюсь как только могу. Почему же, спросите вы, я ощущаю себя Моисеем? Отвечаю: сто лет тому назад один литовский поэт [38] отлил форму для польского духа, а сегодня я, как Моисей, вывожу поляков из рабства этой формы, увожу поляка от самого себя…
До слез смеялся я моей мании величия! Впрочем, чисто теоретически эта антиномия не такая уж необоснованная. Интересно, сколько людей из нашей сегодняшней при всех ее титулах так называемой интеллигенции в состоянии понять смысл данного процесса, состоящего в том, что какой-то там поляк, именно потому что он слишком сильно, слишком рьяно был поляком, во что бы то ни стало пожелал освободиться от поляка; а также в том, что как раз среди нас, из-за существующего в нас сильного национального самозабвения, должно было возникнуть совершенно противоположное чувство, абсолютно противоположная идея. Хочу спросить: сколько из этих титулованных интеллигентов смогли бы понять, какие безмерные перспективы создает перед нами такая революция, при условии, что она найдет людей довольно основательных и немелочных, чтобы довести ее до конечного воплощения? Зато какое грядет обновление! Какой приток творческой энергии и какой динамизм свободы, опирающейся на обновленное отношение поляка к себе! Ах, как иногда я мечтаю найти сторонников, которые раздули бы меня до размеров события нашей истории, и понимаю, что такое вполне возможно, поскольку, по моему разумению, значение произведения зависит как от того, кто его пишет, так и от того, кто его читает. Есть столько книг, которые могли бы взреветь трубами иерихонскими, если бы люди подняли их и приложили к устам своим… Спи, моя труба, брошенная на свалку невостребованных польских возможностей.
Свалка. Дело в том, что я беру начало на вашей свалке. Во мне говорит то, что вы в течение веков выбрасывали как мусор. Если моя форма является пародией формы, то и дух мой является пародией духа, а моя личность — пародией личности. Разве дело обстоит не так, что форму нельзя ослабить противопоставлением ей другой формы, зато можно сделать это ослаблением самого отношения к форме? Совсем не случайно, что в тот момент, когда позарез требуется герой, ни с того ни с сего появляется шут… все понимающий и поэтому — серьезный. Слишком долго вы были слишком педантичными и слишком наивными в вашем состязании с судьбой. Вы забыли, что человек не только является собой, но и прикидывается собой. Вы выбросили на свалку все то, что в вас было театром и актерством, и попытались об этом забыть; а сегодня вы смотрите в окно и видите, что на свалке выросло дерево, представляющее собой пародию на дерево.
Допустив, что я родился (что не факт), я родился для того, чтобы разоблачить вашу игру. Мои книги должны вам сказать не «будь тем, кто ты есть», а «ты делаешь вид, что ты таков, какой ты есть». Я хотел бы, чтобы в вас стало плодотворным как раз то, что вы всегда считали абсолютно бесплодным и даже постыдным. Если вы так ненавидите актерство, то только потому, что оно сидит в вас; но для меня актерство становится ключом к жизни и действительности. Если вам претит незрелость, то потому, что она в вас, но для меня польская незрелость определяет все мое отношение к культуре. Моими устами говорит ваша молодость, ваша жажда игры, ваша ускользающая гибкость и неопределенность — вы ненавидите как раз то, что выталкиваете из себя, — во мне освобождается скрытый поляк, ваше alter ego, оборотная сторона вашей медали, скрытая до сей поры от взоров часть вашей луны. Ах, как бы мне хотелось, чтобы вы стали актерами, понимающими, что идет игра!
Но в этот момент я думаю о массе народа, о тысячах и тысячах простых людей. Зачем им все это? Что поделаешь — в той темноте, в которой я оказался, приходится двигаться вслепую. Я пишу все это в качестве предложения, чтобы посмотреть, какой получится эффект… и если эффект будет положительным, я пойду дальше.
Среда
Мое самомнение, кажется, становится серьезной болезнью. Я начинаю опасаться, что мне поделом достанется от фельетонистов. Но что делать с той спесью, которая охватила меня, не к врачу же идти. (Я написал это, чтобы подстраховаться, а подстраховавшись, обеспечить себе большую свободу действий.)
Кроме того — понимаю ли я себя? Определяя себя, я не только грешу против собственной философии, но и прежде всего — против моей лирической стихии. Некто весьма проницательный предостерегает меня в письме: «Вы уж не комментируйте себя! Только пишите. Как жаль, что Вы поддаетесь на провокации и пишете предисловия к своим произведениям и даже комментарии!»
И тем не менее я обязан толковать себя настолько, так далеко, насколько я в состоянии это делать. Во мне теплится убеждение, что тот писатель, который не может писать о себе, неполон.
Четверг
В течение нескольких лет подряд я проводил с К. по семь часов ежедневно в одной комнате — он был моим коллегой по работе, такой же, как и я, служащий — и я успел полюбить его… В прошлую пятницу я, как всегда, попрощался с ним, а в понедельник его не было за письменным столом. Его не стало, короче: он умер. Умер неожиданно и исчез так ощутимо, что как будто какая-то рука вырвала его из нас. Я увидел его еще раз, в гробу, где он выглядел как нечто назойливое, лезущее в глаза. Жалкое впечатление.
Время от времени кто-нибудь из коллег улетучивается таким образом, а мы, вобрав голову в плечи, говорим: хм, хм… (а что еще мы можем сказать?), и в воздухе повисает легкое замешательство. А ведь в подавляющем большинстве все мы, служащие, находимся в процессе умирания. Люди после сорока постепенно выматываются, стареют с каждым годом. На похоронах я думал, что это не живые прощаются с покойником, а умирающие прощаются с умершим. На кладбище в светлый послеполуденный час их лица, отмеченные печатью безнадежности, выглядели трупно, как тот труп в гробу, и каждый тащил себя, как наполненный смертью мешок.