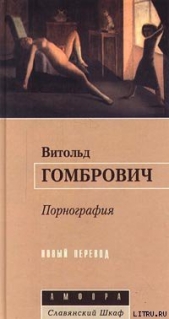Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Действительно, я не хочу знать, ничего, ничего, ничего, я хочу только верить. Я верю в безошибочность моей веры и в правильность моих принципов. Здоровый человек не хочет подцепить бациллу, а я не хочу вдыхать мыслительный миазм, способный подорвать мою веру, которая мне необходима в жизни, и даже есть сама моя жизнь…»
«Верить можно только если хочется верить или если в себе воспитываешь веру, а кто умышленно подвергает свою веру испытанию, чтобы проверить, выдержит ли она испытание, тот уже не верит в веру. Да, надо верить. Надо верить в то, что надо верить. Надо иметь веру в веру! В себе самом надо полюбить веру».
«Вера без веры в веру не сильна, и никому не может дать удовлетворения».
Я прочел это во «Фрей Мочо». Меня с любопытством спрашивали, так ли усерден католицизм в Польше, как и прежде, и является ли Польша siempre fidelis [29]? Я сказал, что сегодняшняя Польша — сухарь, с треском разламывающийся на две части: на верующих и на неверующих. Вернувшись домой, я подумал, что вышеприведенные отрывки следует рассмотреть. Эта «вера в веру», столь сильный упор на акт воли, создающий веру, этот выход из веры в сферы, где она возникает, — вот что действительно меня волнует.
Кроме того: какую позицию мне занять по отношению к католицизму? Я не имею в виду мою чисто художническую работу, поскольку в ней не выбирают ни позиций, ни подходов, искусство создается само по себе — я имею в виду мою литературу в ее общественном аспекте, в разных там статьях, фельетонах… Я совершенно один перед этой проблемой, потому что наша мысль, парализованная в 1939 году, не продвинулась с тех пор ни на шаг в области вопросов фундаментальных. Мы ничего не можем продумать, потому что мы не свободны в своем мышлении. Наша мысль так сильно прикована к нашей ситуации и так захвачена капитализмом, что может работать только или против него, или с ним — и мы avant la lettre [30] прикованы к его колеснице, он нас победил, привязав нас к себе, хоть мы и рады видимости свободы. Поэтому и о капитализме сегодня можно думать лишь как о силе, способной сопротивляться, а Бог превратился в пистолет, из которого мы жаждем застрелить Маркса. Вот она, эта святая тайна, перед которой склоняют головы испытанные масоны, которая из низких светских фельетонов прогнала антиклерикальный анекдот, диктует поэту Лехоню взволнованные строфы, обращенные к Богоматери, социалистически-атеистическим профессорам возвращает трогательную невинность времени первого причастия и вообще творит чудеса, какие до сих пор и не снились философам. Но… что это, триумф Бога или Маркса? Если бы я был Марксом, то я бы гордился, но если бы я был Богом, то, как абсолюту, мне было бы слегка не по себе. Фарисеи! Если вам стал необходим католицизм, то станьте серьезнее и попытайтесь искренне сблизиться с ним. Пусть этот общий фронт не будет лишь политикой. Просто я за то, чтобы все, что происходит в нашей духовной жизни, происходило как можно основательнее и порядочнее. Пришло время, когда атеисты должны искать нового соглашения с Церковью.
Но, поставленный принципиально, вопрос тут же становится таким пугающе трудным, что, честное слово, опускаются руки. Как можно договориться с тем, кто верит, хочет верить и не допускает для себя никакой другой мысли, кроме той, догмат которой он не вносит в список запрещенных? Неужели существует общий язык между мной, идущим от Монтеня и Рабле, и той самозабвенной в своей вере корреспонденткой? Что бы я ни сказал, она все будет мерить аршином своей доктрины. У нее все решено, поскольку она знает истину о мироздании в конечной инстанции, что придает ее гуманизму совершенно иной — и с моей точки зрения весьма странный характер. Чтобы прийти к согласию с ней, я должен был бы разбить эти ее истины в конечной инстанции — но чем убедительнее я стану для нее, тем в большей степени я буду сатанинским и тем сильнее она заткнет уши. Ей нельзя допускать сомнения, и мои доводы станут как раз питательной средой для ее credo quia absurdum [31].
Здесь проступает страшная аналогия. Когда разговариваешь с коммунистом, создается впечатление, что говоришь с «верующим». Для коммуниста тоже все определено, он обладает истиной, он знает по крайней мере в нынешней фазе диалектического процесса. И более того, верит, и еще более того, хочет верить. Ты его уже переубедил, да он не переубеждается, потому что он верен Партии: Партия лучше знает. Партия знает за него. Тебе не показалось, когда твои слова отскакивают от этой герметичности, как от стенки горох, что истинный водораздел проходит между верующим и неверующим, и что этот континент веры охватывает такие непримиримые церкви, как католицизм, коммунизм, нацизм, фашизм… И в эту самую минуту ты чувствуешь над собой опасность колоссальной Святой Инквизиции.
Суббота
Инженер Ł. пригласил меня на собрание одного католического общества. Было человек двадцать и монах. Прочли короткую молитву, после чего Ł. читал тексты Симоны Вейль в его собственном и очень хорошем, насколько я могу судить, переводе. Потом была дискуссия.
Как всегда на подобного рода собраниях, меня поразили прежде всего отчаянные технические недостатки этого предприятия. Симона Вейль трудна, концентрированна, погружена во внутренние переживания, ко многим из ее мыслей надо возвращаться по нескольку раз — кто из этих людей мог схватить ее на лету, усвоить, запомнить? Даже если бы схватили…
Дискуссия была из тех, что никого не способны взволновать, потому что такие дискуссии стали обыденностью. Но мне все же казалось, что ситуация говорит со мною словно Шекспир:
Неправда, что все люди равны и что каждый может обсуждать кого захочет. Симона Вейль попалась в шестерни этих не слишком тонких умов, этих, видимо, не столь зрелых душ, и вот началось бестолковое копание в феномене, значительно превышавшем собрание. Говорили скромно и без претензии, но не оказалось ни одного, кто сказал бы, что он не понял и вообще не имеет права говорить на сей предмет.
Главное было то, что они, будучи в личном отношении ниже Вейль, трактовали ее свысока, с вершин возвышавшего их коллективного разума. Они чувствовали, что обладают Истиной. Если бы на этом симпозиуме появился Сократ, они отнеслись бы к нему как к профану, поскольку он не входил в число посвященных… Они знают лучше.
И вот этот механизм, позволяющий низшему избегать личной конфронтации с высшим, показался мне аморальным.
Воскресенье
Для себя я не желаю, не жажду войны с католицизмом; я искренне ищу взаимопонимания. Причем вне зависимости от политической конъюнктуры. Много воды утекло с того времени, когда Бой нападал на «черную оккупацию». Я никогда не был сторонником слишком плоского лаицизма [32], а война и послевоенное время мало изменили меня в этом отношении, они скорее утвердили меня в желании видеть мир более гибким, с более глубокой перспективой.
Если я могу жить вместе с католицизмом, то только потому, что меня все меньше и меньше трогают сами идеи, и главный упор я делаю на отношении человека к идее. Идея есть и всегда будет прикрытием, за которым творятся другие, более важные, дела. Идея — это повод. Идея — это вспомогательный инструмент. То мышление, которое в отрыве от человеческой реальности является чем-то величественным и великолепным, растворенное в массе страстных и несовершенных существ, превращается в говорильню. Меня утомили эти глупые дискуссии. Этот контрданс аргументации. Высокомерное умствование интеллигентов. Пустые формулы философии. Наши разговоры были бы прекрасными, полными логики, дисциплины, эрудиции, метода, точности, основательности, благородства, новаторства, если бы не велись двадцатью этажами выше нас. Был я недавно у одного интеллектуала на завтраке. Никто бы не догадался, слушая дефиниции, подкрепленные столькими цитатами, что это — абсолютно тупой недоумок, разряжающийся в высоких сферах.