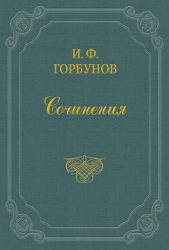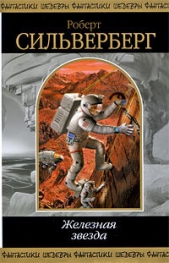Белки в Центральном парке по понедельникам грустят

Белки в Центральном парке по понедельникам грустят читать книгу онлайн
На Жозефину наседает издатель, требуя от нее новую книгу. Но ей не до творчества: младшая дочь только что завела первый взрослый роман, старшая превращается в копию своей интриганки-бабушки; расположения Жозефины добивается красавец Филипп (но не так-то просто принять ухаживания мужа своей умершей сестры!), а лучшая подруга пребывает в депрессии и постоянно требует внимания и утешения.
Однажды утром Жозефина находит на помойке чей-то дневник. Она и подумать не могла, что именно в нем найдет утраченное вдохновение и вкус к жизни…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Перед глазами снова вставал отец.
Красные коридоры Букингемского дворца. Ковры, по которым нога ступает неслышно. Слова, которые можно произносить только шепотом. Никогда не повышать голоса: кричать — это вульгарно! И говорить о том, что тебя мучает, вульгарно. Never explain, never complain [85].
И ее бессильная ярость у закрытой двери, перед этой ссутуленной спиной.
Ширли просидела в пижаме еще целый день и еще. Она хотела понять. Ей нужно было понять.
Она болтала в воздухе длинными ногами. Пересаживалась. Устраивалась в большом кожаном кресле у окна. Смотрела, как пляшут на потолке тени машин и деревьев на улице.
Сгущались сумерки.
Она брала бутылку, подливала себе в стакан, шла за курагой или миндалем. Шлепая босыми ногами по полу, отчетливо ощущала все узелки и неровности дерева и надавливала сильнее.
Избыть ярость, успокоиться… Теперь эта ярость ей была хорошо знакома. Она могла выразить ее словами. Облечь в воспоминания. Краски. Взглянуть ей в лицо и твердой рукой отправить обратно в прошлое.
Шли дни. Иногда по утрам лил дождь, и Ширли щурилась, чтобы убедиться, что ей не мерещится. Иногда с утра, напротив, светило солнце, и широкие лучи подбирались по кровати к ее ногам. Тогда Ширли говорила: «Hello, sunshine!» — вытягивала руку, ногу. Заваривала чай, намазывала сухарик апельсиновым джемом, возвращалась в постель, пристраивала поднос на колени и обращалась к сухарику. А что ему, главному камергеру, еще было делать? Что он мог? Он был безоружен, бессилен. Он же написал: «Как объяснить тебе то, чего я и сам не понимаю?»
А разве, чтобы любить, обязательно все объяснять и понимать?
Ширли смотрела, как солнце медленно перебирается от одного высокого окна к другому. Она думала: надо научиться жить с этой яростью, а как еще, надо прибрать ее к рукам и наловчиться ее пресекать, как только полезет наружу.
Наступало время виски. Она вставала с постели, выколупывала из формы для льда кубики, бросала в стакан и звенела ими, вслушиваясь в это тонкое звяканье. Слушала дождь. Покачивала то одной ногой, то другой.
На десятый день на ее душу наконец снизошел покой — тонкий, как струйки дождя.
Похоже, буря-то миновала, удивилась Ширли про себя и решила как следует отлежаться в ванне. Она сама толком не знала, что поняла, что выяснила. Но знала точно, что сегодня — первый день новой жизни. Вот счет, надо расплатиться и идти.
С лица у нее не сходила улыбка. Она щедро сыпанула в воду душистой соли. Все это пока расплывчато, но действительно ли надо, чтобы все было понятно, расписано и разложено по полочкам?.. Сейчас все, что ей нужно, — нахохотаться и належаться в ванне. Она поставила «Траурный марш» Шопена и скользнула в горячую воду.
А завтра она пойдет гулять.
Наденет шляпу от дождя, вытащит из-под нее несколько белокурых прядей, мазнет помадой — и пойдет шагать по улицам, в парк, на пруды, как раньше.
«Да что ты, дура, возомнила? Думаешь, вот так, хоп-хоп, и все решено? Нет уж, с дурными мыслями так просто не разделаешься…»
Она позвонила Оливеру и назначила ему встречу в Spaniard’s Inn — в их любимом пабе в Хэмпстеде. Оставила велосипед у входа, без замка, и вошла. Взволнованная, в тревоге. Она строго-настрого запретила себе думать о плохом.
В пабе было темно. Оливер сидел в глубине с кружкой пива. Волосы на голове взъерошены. Рядом на стуле желто-зеленый рюкзак. Он поднялся с места и так крепко приник губами к ее губам, что ей показалось, она растворится в этом поцелуе с головой. Барменша — высокая, сухопарая, краснощекая и почти лысая — включила музыку, чтобы было не так тихо: Madness.
— Ну как ты, — спросил Оливер, — получше?
Ширли не отозвалась. Ей не понравилось, как он это сказал. Что он, думает, она была больна? Что ей надо было подлечиться? Она отстранилась и отвела глаза, чтобы он не заметил, как у нее во взгляде мелькнуло раздражение.
Они стояли друг напротив друга, свесив руки, как неуклюжие начинающие актеры.
— Как-то мы банально смотримся, — прибавил он.
Ширли слабо улыбнулась. На сердце у нее было пусто.
— Так что, больше не будешь меня гнать? — спросил Оливер, улыбаясь своей улыбкой лесного разбойника.
В его голосе звучала нежность. Покорность. Везет же ему, что он может любить кого-то так крепко, так просто, что его не тянут назад никакие призраки прошлого…
Оливер широко распахнул объятия. Она осторожно прижалась к нему.
— Как думаешь, сможешь ты когда-нибудь меня полюбить?
— Ну зачем ты сразу так высокопарно? — вздохнула она, поднимая к нему лицо. — Не видишь, я уже привязываюсь к тебе потихоньку. Для меня это, знаешь ли, уже немало!
— Именно что не знаю. Я вообще ничего про тебя не знаю. Собственно, в эти несколько дней я как раз об этом думал.
— Так я сама про себя ничего не знала. Это ты меня заставил присмотреться.
— Скажи спасибо.
— Не факт. Я так устала, так устала…
— Но ты вернулась. Я очень рад. Я не знал, вернешься ты или нет.
— А что бы ты сделал, если бы я не вернулась?
— Ничего. Это твой выбор, Ширли.
Она прижалась к нему всем телом и замерла. Силы ей еще понадобятся, чтобы вырываться. Оливер склонился к ней и поцеловал, сжав запястья, чтобы она не сопротивлялась. Как это было нежно, мягко, — после долгих десяти дней, что она изводилась от горя и злости!.. Этот поцелуй был как заслуженный отдых. «Целуй меня, — повторяла она про себя, — целуй, не давай мне думать, я не хочу больше ни о чем думать, я хочу вернуться в сегодняшний день, касаться губами твоих губ, крепких и гибких, которые щекочут мои, и пускай это просто поцелуй, просто минута удовольствия, — и она нелишняя, и ее я хочу прожить целиком, от и до». Поцелуй длился долго, умелый, неторопливый, и Ширли казалось, что это скорее счастливое противостояние, а не сдача с повинной. Оливер снова прижал ее к себе, она ощутила всю тяжесть его тела, исполненную доверия, он обхватил ее руками, как ствол большого, мощного дерева, вдохнул ее запах, отстранил, снова привлек к себе, нежно похлопал по макушке, приговаривая: «Тс-с, тс-с…» — и снова принялся целовать ее так, словно они не сидели в пабе, а лежали в широкой разобранной постели.
Ширли следила, не накатит ли на нее снова волна злости. Она знала, что злость так быстро не уйдет. Ей еще долго отходить, выздоравливать — как после тяжелой болезни.
Анриетта дождалась, чтобы Рене и Жинетт сели в машину, Жинетт пристегнулась и аккуратно пристроила на коленях коробку с пирожными. Она теребила розовый бант, которым в булочной обвязали коробку. Машина подалась вперед, назад, ворота открылись и закрылись. Они едут ужинать к матери Жинетт. После ужина будут смотреть «Кто хочет стать миллионером». Путь свободен.
Надо еще чуть подождать, пока стемнеет и можно будет скользнуть внутрь незаметно, в сумерках, когда, как известно, все кошки серы. Анриетта решила подождать в кафе напротив офиса «Казамии». Спешить ей было некуда. Наоборот, хотелось посмаковать последние минуты перед штурмом.
«Хочу, чтобы ему было плохо», — твердила она про себя, рассматривая мощеный двор напротив, через улицу, — тот самый двор, где раньше она властвовала безраздельно. Стоило ей войти, как все вокруг гнули спину. Ее боялись. И ей нравилось видеть страх в этих склоненных шеях, в глазах Марселя: он не знал, как разорвать эту цепь, которую она держала уверенно и крепко. «Ага! Думал, отделался от меня! Думал, на мое место можно вот так взять да посадить эту цацу! И расхаживает теперь, грудь колесом, дескать, у него жена и ребенок!.. Нет уж, дудки. Раз так, я буду каждый месяц взимать с него что мне причитается. В этом офисе все принадлежит мне. Это был мой личный сейф, сбережения на старость. А он одним росчерком вышвырнул меня — вычеркнул мое имя из списка владельцев компании. Меня обжулили. Он мне за это заплатит!» И от одной мысли, что долгожданная месть вот-вот осуществится, по ее телу пробежала сладкая дрожь, пересохший рот снова наполнился слюной, кровь застучала в висках, а бледные щеки окрасились легким румянцем. Месть, месть!.. «Начну я потихоньку, осторожно, сниму сотенку-другую. Дальше — больше, и больше, и больше… Ух, он у меня и попляшет! Сам он счета никогда не проверяет, а Пищалке не до того. Бухгалтерия по Пекину, Софии, Бомбею, Милану и еще куче мест. Отчетность на разных языках, по разным банкам, куда Пищалке со всем этим разобраться! А уж личные-то счета ей смотреть и вовсе некогда. С ними, думает она, пускай Марсель сам разбирается. А Марсель что? Ему двадцати четырех часов в сутках мало, чтобы все переделать. Он отпустил поводья. Осел, обмяк, сник. А я как была бодра, крепка, ненасытна — жажда мести молодит, — так и осталась. Я и компьютер освоила, и по Гуглу шарю, и по клавишам шпарю что твои гаммы, захожу в браузер, смотрю свой счет, проверяю вложения. Я уже многому научилась и учусь дальше. Веду дела втихомолку, шито-крыто. Надо проследить, чтобы Шаваль всегда был начеку. Пускай расспрашивает Пищалку и тут же сообщает мне, если что не так. Это как брать новую высоту. И это дело чести. Я просто восстанавливаю справедливость…