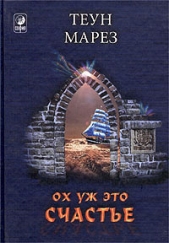Беглец из рая

Беглец из рая читать книгу онлайн
В новой книге известного русского писателя В.В.Личутина – автора исторических произведений "Скитальцы", трилогии "Раскол" – продолжается тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о мятущейся душе интеллигента, о поисках своего места в современной России. Это – тот же раскол и в душах людей, и в жизни...
Неустроенность, потерянность исконных природных корней, своей "родовы", глубокий психологический надлом одних и нравственная деградация на фоне видимого благополучия и денежного довольства других...
Автор свойственным ему неповторимым, сочным, "личутинским" языком создает образ героя, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить незапятнанной душу и любящее сердце способное откликаться на чужую боль и социальную несправедливость, сердце, вопреки всему жаждущее любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать, какие потери пережить, узнает нынешний читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Профэс-сор, вам плохо? – обавно прошептала кустодиевская женщина, сочувственно наклонясь наг до мною, и легко вздернула на ноги. – В таком положении я вас никуда не отпущу. Вы умрете в дороге, а мне отвечать. – Отогнула рукав, посмотрела на часики. – Уже вторые петухи пропели. В это время у сердечников часто бывает инфаркт. Поверьте мне, я кончала медицинский... Пойдемте, дербалызнем по стопарю. Никто и не узнает. Мы тихонечко, на цырлах. Ужас, как хочется. Трубы горят.
Шура придирчиво огляделась, словно бы вспомнив на миг, что она начальница над всеми, пошла вкрадчиво к подъезду, и шарф волочился за нею по истоптанному снегу, как веревочная петля висельника. Женщина тихохонько приоткрыла дверь, оглянулась приглашающе... и ушла.
А я, напуганный и растерянный, остался на мозглой улице, посыпанный легкой колючей порошей. И стал перебирать взглядом окна, ожидая, в котором вспыхнет свет.
И зачем-то подумал, что вот такими порывистыми, нервными и взбулгаченными бывают обычно женщины сухие, вытлевшие изнутри от изнурительной сухотки, что торопятся забрать от жизни последнее. А тут рубенсовский типаж... и столько оказалось в нем торопи и зажига... Вот в бане Шурочка была сама собою, вальяжная, распаренная, замедленная, с коровьим дымчатым взглядом, этакая «женщина на деревенском пленэре», ждущая живописца-любителя под стать себе. А тут зачем-то попался я – невзрачный коровичий кизяк – и переступил дорогу Гришке Мелехову из Жабок с вострыми седыми усами...
Господи, зачем же я терзаюсь и сочиняю постоянную ерунду, ловец чужих душ?.. Может, впервые я угодил в природную систему, которую не надо сочинять в унылом уме, получая в остатке пыль и моль, но она сама подобрала меня, как Божья уловистая сеть, чтобы я не сошел с ума в своем одиночестве. Но я, дурень, отпихиваюсь обеими руками и, будто совхозный бухгалтер, натянув сатиновые нарукавники и придвинув под нос исшорканные счеты, кидаю костяшки туда-сюда и свожу дебет с кредитом, чтобы не промахнуться, но быть в наваре... Паша, милый, а ты воспари! Сойди с ума-то, сой-ди-и!.. Воскликни хоть раз в жизни безрассудно, потеряв голову: «А-а-а, пропади все пропадом! Однова живем-то!» – да и шваркни хрустальную чарочку об пол, чтобы разлетелась она прозрачной шрапнелью по всем углам чужой обители. Нет, никогда тебе не быть Зулусом, ростом не вышел... Трус ты, Паша, мерзкий трус и слабак.
– Кры-ло-ва-а? – тихо, сомлело позвал я в никуда, задрав взгляд над крышею дома, словно Шурочка должна была слететь с небес. Но знал, что уже ниоткуда не отзовутся. Мое сумасшествие не состоялось, и хрустальную чашечку бить не придется. Сейчас, горемычный, залезу в машину и усну, а часа через два превращусь в ледяную корчужку.
– Шура Кры-ло-ва-а? – прошелестел я, как поминальную молитву над собою.
Дверь в подъезде бесшумно приоткрылась, оттуда высунулась рука, облитая черной кожаной перчаткой, и поманила меня пальцем.
...Я проснулся неожиданно, будто кто толкнул меня в бок, с ощущением необычной радости, словно только что беседовал с Богом. Шура лежала возле, уткнувшись носом мне в плечо, и влажно, щекотно дышала. Волосы разметались ворохом, засыпали подушку, от них пахло ячменным полем, округлое плечо матово светилось, как наспевшее яблоко. «Господи, – удивленно, всполошенно подумал я, – и этакая богатая женщина вся принадлежит мне?» Я утомленно смежил веки и вдруг увидел сон. На пологой, покрытой ромашками вершинке стоит голубоглазое дитя с ржаными волосенками, вздернутым на макушке хохолком и протягивает ко мне ручонки. А кто-то с небес, невидимый мне, вещает строгим басом: «Гляди, это твой сын!» – «Какой сын? – недоуменно отвечаю я. – У меня же нет сына».
И с этими словами я очнулся. Видение было ошеломляющим, в груди было тесно от необычного смешанного чувства благодарности, грусти и любви, и такая неказистая, заурядная моя жизнь, катящаяся уже под горку, вдруг показалась полной тайн и несбывшихся мечтаний, которые пока задержались в пути, но теперь, несомненно, исполнятся. Теплый густой голос неведомого пророка еще звучал во мне, и, боясь распрощаться с ним, я медлил открыть глаза.
– Паша, ты спишь? – прошептала кустодиевская женщина и навалилась грудью на мое плечо, чтобы посмотреть мне в лицо. Я, придавленный, окаменел, но, видно, ресницы от напряга дрогнули, Шурочка как-то тало, сыто, по-голубиному взбулькнула горлом, как смеются удоволенные в страсти женщины. – Плутишка, ой плутишка-снегиришка. Я же вижу, что ты не спишь. Паша, я смотрю на тебя, а ты же юноша еще. Совсем не истраченный... Боже мой, ты же еще не любил по-настоящему. У тебя все еще впереди, да-да. Я тебя на пятнадцать лет моложе, но перед тобою старуха. Да-да, – приборматывала Шурочка и все плотнее пригнетала меня грудью, сбивала дыхание.
Я невольно приоткрыл глаза навстречу утешливому, ласкающему голосу и сквозь паутину ресниц увидел пунцовые, туго набитые щеки, брусничные припухлые губы сердечком, так смешно шевелящиеся, если рассматривать их вплотную, и васильковый, отдельно живущий глаз в оторочке рыжеватой шерсти, похожий на медузу. Я не мог сдержаться, и рот мой поплыл в глупой улыбке.
– Павел Петрович, я вас обожаю...
– Ну почему я, невзрачный, никошной полудурок? – проскрипел я, как несмазанная петля. – Ты надо мною издеваешься? Шура, прошу, не играй, за мною смертя ходят.
– Паша, почему ты не поверишь? Как увидала тебя, так и задрожало все внутри. Позвал бы – побежала, как собачонка. – Глаза у Шуры взялись поволокой. – Тебя мне Бог послал... Ты, наверное, в Бога не веришь?
– Кры-ло-ва? – тягуче позвал я, чтобы остановить близкие женские слезы. – Не сочиняй... Разве так бывает?
– Выходит, бывает... Любовь нечаянно нагрянет. Это – правда, это как в песне. Любовь – это болезнь, как чахотка. Если безответная, то всего выпьет. Не успеешь и очнуться. Любить могут только здоровые люди, у кого душа на месте, а больные любят лишь себя. У них здоровья душевного нет, чтобы любить других. – Не сдержалась, заплакала. – Я тебя распечатаю, Паша, вот увидишь, – приговаривала Шура, глотая слезы. – Я тебя разморожу. Тебя заморозили, а я подую – и оттаешь...
Откуда-то вдруг взялся облик Марфуши и тут же пропал, будто загасило сквозняком из форточки. Метель поднялась на улице, форточка залязгала в шарнирах, и снежная пыль припудрила ковер на полу. Одна снежинка под порывом ветра пропарусила через комнату и присела мне на губу. Шура приклонилась лицом, опахнув жарким дыханием, и слизнула мохнатую звездочку, будто тучная задумчивая корова. И тут меня объяло всего и поволокло, потянуло по быстрине, и я покорно отдался реке любви, то погружаясь в водовороты, полагая, что и не остаться мне вживе, то вновь подымался, задыхаясь, под солнце, омытый в упругих косицах верховой воды...
Мы просыпались внезапно под резкий звон стекла и заливистый плач пурги, о чем-то бессвязно говорили, едва ли слушая друг друга, игрались, как тюлени на лежке, и снова проваливались в недолгое, но плотное забытье.
На следующее утро, одеваясь за дверкой шифоньера, Шурочка вдруг объявила каким-то замороженным, бесстрастным голосом:
– Павел Петрович, у нас с тобой будет сын. – Но, не слыша ответа, испуганно переспросила: – Ты что, недоволен?
– Откуда ты знаешь? Разве тебе была весть?
Все походило на забаву, на игру, на кудесы и блазнь, и я не знал, с каким сердцем принять Шурины слова. Я не мог поверить в свой сон, но и боялся его отпугнуть.
– У женщин звериная душа... Я даже слышала, как это все случилось... Он ко мне попросился, и я сказала: входи... Думаешь, я провинциальная авантюристка, чтобы не сказать хлеще... Я тебя не держу и не привязываю. Павел Петрович, ты волен в себе и поступай как знаешь. Но ты во мне...
Шура ушла на работу, не попрощавшись.
Я захлопнул квартиру, завел машину и поехал в Жабки. Губы мои раздирала непонятная ухмылка. Вся случившаяся история скрутилась в один плотный свиток величиной с фасолину и уместилась где-то на дальних выселках памяти как зряшная, взбалмошная причуда московского интеллигента на сельских выгулах. На ум лезла дурацкая, где-то подслушанная частушка: «С Новодворской у метра целовались до утра...» Дрянная песенка, сочиненная московским пошляком, оскверняла мое любовное безумие, куда я свалился так неожиданно и едва выбрел на белый свет, как бы опрощала, лишала романтического флера, потрафляла внутренней грязце, распаляла ее, крепко присохнув к языку.