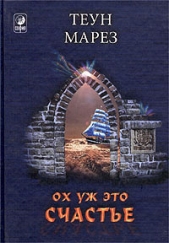Беглец из рая

Беглец из рая читать книгу онлайн
В новой книге известного русского писателя В.В.Личутина – автора исторических произведений "Скитальцы", трилогии "Раскол" – продолжается тема романов "Любостай" и "Миледи Ротман" о мятущейся душе интеллигента, о поисках своего места в современной России. Это – тот же раскол и в душах людей, и в жизни...
Неустроенность, потерянность исконных природных корней, своей "родовы", глубокий психологический надлом одних и нравственная деградация на фоне видимого благополучия и денежного довольства других...
Автор свойственным ему неповторимым, сочным, "личутинским" языком создает образ героя, не нашедшего своего места в новых исторических реалиях, но стремящегося сохранить незапятнанной душу и любящее сердце способное откликаться на чужую боль и социальную несправедливость, сердце, вопреки всему жаждущее любви, нежности, человеческого тепла и взаимопонимания. Сколько суждено ему страдать, какие потери пережить, узнает нынешний читатель.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Придет... Никуда не денется, – равнодушно бросила Шура, поднимаясь на уже знакомое мне скрипучее крыльцо. Принагнулась, обмахивая голиком белые чесанки, невольно растопырилась передо мною. И откуда-то шаловливое в голове: «Вот где мамонтиха-то: не обойти, не объехать». И вдруг захотелось игриво шлепнуть по крупу, обтянутому махровым халатом... Так похлопывают породистую кобылицу после ездки, восхищаясь ею.
«Постыдись, милый друг, ты вроде бы московский господин, а мысли у тебя охальные, как у работника скотобазы», – укорила меня душа. Но я тут же оправдался перед нею: «Ну и что с того?.. Разве я не мужик? Иль все так отсохло у меня, отвалилось, посунулось к земле, что и краном не вздынуть?..»
Я торопливо забежал вперед, ловко открыл дверь перед женщинами. Подумал: «Эх, сюда бы господина Фарафонова. Юрий Константинович научил бы, как жить. Женщины любят хватких, у кого слово слетает с губ легко, словно шелуха от семечек. Слово не должно зависать на языке свинцовой каплей, чтобы все смотрели тебе в рот в мрачном ожидании, когда оно свалится. Оно должно быть в меру медовым, но и солоноватым, крутоватым и нахальным, слегка присыпанным перчиком. С бабами надо уметь разговаривать: вроде бы ты угодник и подпятник и каждое женское желание ловишь на лету, но вместе с тем и хозяин и, когда понадобится, постоишь на своем. Они тогда легко теряются, у них витает сладкий туман в голове... Да-да, братец мой, вскружить голову женщине – это целое искусство, а в нем я всегда был слабоват. Ведь у нее все внутренние протоки, непонятным образом минуя полушария, закольцованы на уши, и всякое взбалмошное, любовное, напористое иль похотное слово легко растворяется в крови, струит по всему телу и ярит, разжигает его...»
– Спасибо, дедушко. Какой галантный кавалер, – сказала Шура, протискиваясь в филенчатую дверь. Проем был выпилен не для кустодиевской женщины. Проходя, она невольно (а может, и понарошку?) прильнула ко мне, и сквозь влажный халат, под которым не было белья, я почувствовал горячее, словно сбитое молотами, молодое тело. Наши глаза на миг оказались вровень, меня опахнуло баней и вроде бы молоком, хотя все мы угощались пивом. Шура так приманчиво посмотрела на меня, что мне; нестерпимо захотелось обнять ее. «Господи, но не на людях же? Не совсем же ты сбился с пути?» – окоротил я себя... Нина была повыше подруги, потупив глаза, будто стесняясь, что мешает людям, пугливо проскользнула мимо, как огородная изумрудная ящерка, даже не коснувшись моей руки.
Дом был еще не доведен до ума: и потолок есть, и крыша, но нет пока того жилого духа, который поселяется в обжитых комнатах. Хозяевал пока лишь плотник с топором и долотом, а для женской руки еще не пришло время. Только низ был заселен на скорую руку, по-кочевому, когда вместо лавок иль стульев – доска на двух чурбанах, стол сбит из двух тесин, и вместо «голландки» иль камина торчит в углу садовая чугунная печка.
Я опустился в изрядно потертое креслице еще хрущевской поры. Шура не долго пропадала в соседней боковушке, появилась оттуда светской дамой в фиолетовом платье по щиколотки с черными атласными бейками по подолу, с широким кружевным распахом на груди, с тяжелым колтухом хитро собранных на затылке волос. Надо лбом тонкие волосы были стянуты так туго, что даже просвечивала белая кожа.
«Эх, кабы молодость умела, да старость бы могла», – с завистью подумал я, прилипчивым взглядом озирая хозяйку. Шура прочитала мои мысли, и без того яркий румянец на тугих щеках стал еще гуще, будто под гладкую кожу впрыснули клюквенного морса.
– Чего так смотришь, понравилась, что ли? – спросила с вызовом и поправила под горлом золотой медальончик.
– Как так?
– Ну, будто съесть хочешь... Смешные вы, мужики. У вас, у мужиков, кобелиные повадки. Баба для вас что костомаха для собаки.
– А что... И съел бы, – храбро признался я. – Только боюсь, не проглотить, подавлюсь. Да и Федор не отдаст... (Оказывается, наука Фарафонова не пропала даром.) Я нарочито облизнулся, и Шура рассмеялась звонко, запрокидывая голову.
– Что мне Федор... Я сама по себе гуляю.
Тут кто-то слепо заскребся в дверь, будто был пьян. Явился Зулус в одних трусах, грудь багровым колесом, кожа бугрилась, переливалась, словно бегали под ней зверушки, играли в догонялки. Видно было, что Федор крепко нравился сам себе, потому и пыжился руками, втягивал живот, еще не поеденный старческой молью. В глазах у Шурочки я прочитал восхищение; не дав и слова сказать, она, как тигрица, вызывающе плотно, хищно прильнула к мужику и припечатала в щеку звонкий поцелуй, будто взорвалась новогодняя петарда. Зулус хотел поймать ее губы, но Шура извернулась, поставила печать на другую щеку. Конечно, Зулус был куда вкуснее меня; у него кисет до колен и грудь наковальней, есть куда прислонить женщине голову. Я смеялся сам над собою, пустея и скоро остывая изнутри. Сейчас в Шурочке мне ничто не напоминало распаренную кустодиевскую купчиху у самовара; обычная наглая, раскормленная сытыми харчами баба, ловко вписавшаяся в антисистему. Разуй глаза, Паша, что же ты, как голь кабацкая, всюду сшибаешь жалкие крохи и снова раззявился на чужое. Небось.и муж у нее есть, и дети, а она тут жирует, царица Тюрвищей, сычиха на пеньке...
– Оделся бы, все ведь выпадет, – подсказала Шура Зулусу, ревниво взглядывая то на подругу, то на меня. Но Нина навряд ли что замечала вокруг, не теряя времени, деловито пластала кольцами колбасу, снимала шкуру с селедки, сдирала с баночек и скляночек крышки, выкладывала на тарелки уже готовые закуски.
– Если что выпадет, подберете. А нет, так собакам на поедь сгодится, – намекнул Зулус, жестко обкусывая слова. Федор сидел, набычась, широко разоставя колени, густая седая шерсть, как у кабана, росла на груди кругованами. Налил сам себе стопку и, не чинясь, выпил наодинку, крякнул.
– Подождал бы всех, – сказала Шура, – еще успеешь нализаться.
– Нагоните... Ну как тебе дом показался?
– Хороший дом, – похвалил я, хотя еще не успел толком рассмотреть его. – И место замечательное. Век бы здесь жил... Тишина, покой. – Я споткнулся, не зная о чем дальше говорить.
– А чьи руки? – хвастливо протянул Зулус. – Мои и... Из дерьма конфетку сделают. – Он пошевелил дресвяной жесткости пальцами, пристально разглядывая слоистые ногти, заусенцы и ссадины, порезы и ушибы, словно впервые в такой близи увидел их. – Досталось им, да-а... Без труда не выймешь и рыбки...
– А деньги чьи? – перебила Шура. – Забыл, чьи деньги? Ладно бы даром. Я баба, а как жучка, кручуся тут, убиваюся на трех работах...
– Значит, так положено, если тебе так надо. Ты, Шурка, успокойся. Что деньги, деньги – бумага, только на растопку... А отстроишься – дом будет свой. Станешь мужиков водить, детей стряпать, пироги печь... Опять же кладбище бесплатное недалеко. – Зулус снова налил стопку и торопливо выпил, словно ктоподгонял. – Правда, потом не продать будет, и никто у тебя не купит. Только министр если, а он не поедет. В деревне ни у кого таких больших денег нету, никто не даст. Ну от силы – пятьсот баксов...
– Не каркай... Не для того я строила, чтобы продавать...
– Не нам знать, Шурка, как все еще обернется. Может, и даром придется отдать. Спросят: откуль денежки? И не отвертеться, – зачем-то дожимал подругу Зулус, ехидно вкручивался клещом в болявое место, чтобы заселиться там. – А ты вон еще и баню поставила. Она тебе во что обошлась?
– В тыщи полторы вышла...
– И не рублей ведь, зелеными... А мне даром стала. Пошел, лесу навалял и сам срубил.
– А труд свой не считаешь?
– Так мой труд ничего не стоит...
– И не скажи. Вы его нынче дорого цените... За копейку не плюнете. Встал – рубль, нагнулся – два. С тысячей к вам и не сунься, уже не деньги. Паша, никогда не вздумай строиться. Обдерут как липку. Понадоблюсь, приходи ко мне за советом, даром дам... – Шура вдруг снова вспомнила меня, забытого, и пригласила в союзники.
– Ага, уже слиплись. Значит, даром, говоришь? Ну-ну, – дерзко засмеялся Зулус и вдруг нагло прихватил Шуру за подол, пытаясь задрать платье на лядвии, заголить ноги и заглянуть в скрытню. – Ты Пашки-то бойся, заклюет. За ним смертя ходят. За кем дом опосля оставишь... Подумала?