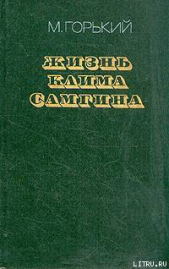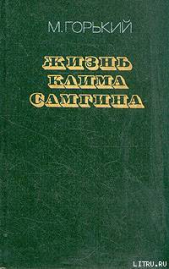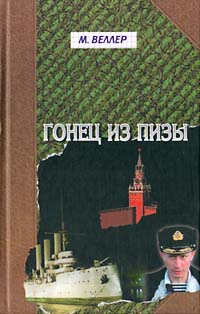Семь фантастических историй

Семь фантастических историй читать книгу онлайн
Содержание:
• Дороги вкруг Пизы
• Старый странствующий рыцарь
• Обезьяна
• Потоп в Нордернее
• Ужин в Эльсиноре
• Сновидцы
• Поэт
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дело в том, что оба мы были в том особенном состоянии духа, какое едва ли у кого из нас когда-нибудь еще повторилось. Я не знал, кто она, она ничего не знала о моих горестях, но оба мы, взбудораженные и потрясенные, испытали друг к другу сильную, я бы сказал, неличную тягу. Я, все еще оглушенный, но с совершенно овнаженными нервами, принимал ее эгоистически, как должное, не задаваясь вопросом, откуда она взялась и куда денется, словно дар судьбы, наконец-то разжаловившейся в тот самый миг, когда одиночество для меня было непереносимо. Она влетела в мою жизнь, как ночной эльф из раскинувшегося вокруг Парижа, который и всегда нам припасает свои чудеса. Что она думала обо мне, что чувствовала — не знаю. Тогда я про это не думал, но теперь, оглядываясь назад, полагаю, что и я для нее явился каким-то символом и едва ли ее интересовал сам по себе.
Я был счастлив и благодарен за то, что она так молода и хороша. Я снова мог улыбаться после пережитого ужаса. Я снял с нее шляпу, поднял за подбородок ее лицо и поцеловал. Тут только я заметил, как она промокла. Верно, она часами бродила под дождем — одежда на ней обвисла, как перья на мокрой курице. Я подошел к столу, откупорил шампанское, налил стакан и подал ей. Она взяла его, стоя у камина, занавешенная мокрыми локонами. С накрашенными щеками, сияющими глазами, она похожа была на ребенка, розового со сна, или на куклу. Она выпила полстакана, медленно, не сводя с меня глаз, и, будто не в силах была молчать после этого, тихонько и нежно, едва шевеля губами, завела песенку на мотив вальса, которую распевали тогда во всех кафешантанах. Потом осеклась, залпом допила шампанское и отдала мне стакан.
— A votre sante, [12] — сказала она.
Голос у ней был звонкий и чистый, как щебет пташки в кустах. А ничто в те дни так не проникало в мою душу, как музыка. После этой песенной строчки мне и вовсе стало казаться, что мне послано что-то необычайное, какое-то чудо. Я снова налил ей вина, обнял ее за белую округлую шею, отвел мокрые пряди с ее лица.
— Как же тебя угораздило эдак вымокнуть, Натали? — спросил я тоном заботливой бабушки. — Тебе надо все с себя снять и согреться.
Я сам почувствовал, как голос мой изменился. Я засмеялся опять. Она устремила на меня свой звездный взор, и лицо ее на мгновение дрогнуло. И тотчас она принялась расстегивать плащ. Под этим черным кружевным плащом, легким не по сезону и подбитым чем-то бурым и выцветшим, на ней оказалось черное шелковое платье, обтягивавшее грудь и ведра, а внизу все в оборках, воланах и буфиках, как носили тогда, на заре эпохи турнюров. Все это переливалось в отблесках камина. И я стал ее раздевать, очень медленно, будто она и впрямь была кукла, а она стояла безучастно, не шевелясь. На лице ее установилось детское, серьезное выражение. Раза два она заливалась краской, но, когда я расстегнул тесный лиф и коснулся ее прохладных плеч и груди, она вдруг улыбнулась широкой нежной улыбкой, подняла руку и сжала мои пальцы.
Тут старый барон фон Бракель надолго умолк.
— А надо вам сказать, — заговорил он наконец, — чтобы вы верно поняли мою историю, что в те времена раздевать женщину было совсем не то, что сейчас. Ведь что, в сущности, за наряды носят нынешние? Не поймешь, что такое, несколько вертикальных линий, подхваченных горизонтальными, вот и все. Никакой идеи, а цель если есть, то одна — побольше открыть. А в наше время тело женщины была глубокая тайна, и платье с великой изобретательностью и верностью ее совлюдало. Вывало, в ненастный день вродишь по улицам в надежде, что вот мелькнет узенькая лодыжка, ну, а вам, молодым, вея женская нога до колена — дело привычное, как ножки этих вот наших вокалов. В мои времена у женских одежд было свое назначение. Со всей серьезностью, понятной не каждому, они окутывали тело, изменяя его первоначальную форму, и она для нас делалась тайной, которую распознать давалось счастливцу. Длинный тугой корсет, все эти китовые усы, нижние ювки, турнюры и драпировки, все эти массы ткани, погревавшие под собой женщину, перетягивавшие ее так, что она едва могла вздохнуть, — все имело единую цель — скрывать.
Из буйного кипения оборок и кружев, рюшей, плиссе, волновавшихся, пенившихся, взвухавших и опадавших при каждом шаге, цветочным стеблем вставал и качался стан, высоко неся грудь, округлую, как роза, но до плеч запертую китовым усом. Вот и вообразите, каково было человеческим существам в этих невозможных, тесных чехлах неизменно таскать на себе рулоны ткани, и думать не смея об иной участи? Женщина в мое время была произведением искусства, достижением долгих веков цивилизации, и фигуру ее мы обсуждали, как и ее салон, с почтением, которое вызывает в нас гениальный и неустанный художник.
А под этим под всем двигалась и жила сама Ева, и, когда пожелает, она сбрасывала с себя маскарад и всякий раз выступала пред нами разгаданной тайной, вечным откровением, с отпечатками корсетной шнуровки на талии, как опоясанная венком из роз.
Вы, молодежь, посмеиваетесь и над идеями нашими, и над турнюрами и скажете мне, что, как мы ни бились, не очень-то мы преуспели в совлюдении тайны. Позвольте, однако, вам заметить: вы не совсем понимаете значение слова. Тайны нет ни в чем том, что ничего собою не символизирует. Даже и для Святого Причастия сперва надобно испечь хлебы и разлить по бутылкам вино.
Женщины в мое время были не просто коллекцией особей женского пола. Они символизировали идею Женщины. Да, мне говорили, что само это слово в его старомодном значении выкинуто из вашего словаря. Тогда как мы решались вводить речь о Женщине — чуть бравируя и замирая от собственной дерзости, — Вы говорите о женщинах. Что уж толковать. Сами понимаете разницу.
Вы ведь читали, верно, как средневековые схоласты задавались вопросом: что было прежде — идея собаки или сами собаки? Для вас, обучаемых статистике с коротких штанишек, думаю, тут нет никакого сомнения, и, конечно, мир для вас выглядит так, будто сотворен ради опыта, наобум. Это как ноздревский повар суп варил, бросая туда перец, соль и приправы, как бог на душу положит, авось-либо что-то да выйдет. Ну, а для нас даже теории старика Дарвина были новы и весьма сомнительны. Наши воззрения всходили на таких дрожжах, как симфонии, дворцовый церемониал, логарифмы, и мы строго различали между законным наследником и бастардом, полагая, что все истинно благородное создается по предначертанному замыслу. У нас были назначение и вера. Идея Женщины — das ewig Weibliche, [13] — у которого ведь и вы не отнимете мистики, — дня нас существовала как изначальная, и женщины наши считали своим назначением ее воплощать согласно замыслу Творца, как задача каждой собаки, полагаю, — воплощать идею Собаки.
Тогда можно было проследить развитие этой идеи в уебочке, которая, сначала не сознавая себя женщиной, понемногу росла, постепенно постигала древнейшие правила пола и, наконец, проходила извечный ритуал посвящения в таинство. Центр тяжести ее существа медленно перемещался от личного к символу — и вот уже она взирала на мир с особенной гордостью и скромностью, присущей представителям великих держав. Ни надменная повадка хорошенькой девушки, ни снисходительная величавость матроны не были выражением личной их суетности, в них вообще не было ничего личного, как нет его в важных приемах посла при вручении верительных грамот. И как ни проклинали Дон Жуана его жертвы с голыми грудями и растрепанными волосами с другого берега Стикса в час его переправы, женщины моего времени на совете присяжных оправдали бы великого совлазнителя, который до последнего рад был включить в свой список и шестидесятилетнюю кокетку — по великой вере его, по незыблемой верности идее Женщины. Да они и Христа самого, в соответствии со своей догмой, предпочитали видеть только младенцем у Богоматери на руках.
Толпы подле храма ничуть не интересны. Интересен священнослужитель внутри. Зевак на паперти, ожидающих, когда закипит кровь святого Пантелеймона, я достаточно понавидался по разным местам. Но лишь изредка мне удавалось заглянуть в святилище и увидеть священнослужителей, старых и молодых, — вплоть до мальчиков-певчих, испуганно и дерзновенно полагающих себя главными лицами в церемонии, — когда с глубокой, серьезной важностью, под сумрачными, прохладными сводами, они оберегали тайну, которую в совершенстве постигли.