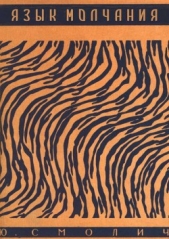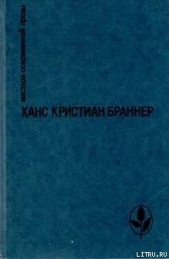Три минуты молчания

Три минуты молчания читать книгу онлайн
Роман Георгия Владимова "Три минуты молчания" был написан еще в 1969 году, но, по разного рода причинам, в те времена без купюр не издавался. Спустя тридцать пять лет выходит его полное издание — очень откровенное и непримиримое.
Язык романа — сочный, густо насыщенный морским сленгом — делает чтение весьма увлекательным и достоверным.
Прежде чем написать роман, Владимов нанялся в Мурманске матросом на рыболовецкий сейнер и несколько месяцев плавал в северных морях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
При выходе вахтерша меня остановила:
— Погоди, сынок, у тебя за семь дней не уплачено.
Вот этого я не учел. Семь дней — это значит, семьдесят копеек. Я вынул свои сорок. Она поглядела на меня поверх очков, вздохнула.
— У соседей не мог одолжить?
— Меньше десятки занимать — несолидно.
— Ладно, сама за тебя заплачу. Запомнишь?
— Забуду. Вы напомните, пожалуйста.
— Постой, я тебе пропуск выпишу.
Я показал ей, что у меня в чемоданчике, а пропуск порвал и кинул в плевательницу. Кому же его показывать? Той же вахтерше.
— До свиданья, мамаша.
— Ступай, счастливо тебе в море.
Была еще самая ночь, когда я выходил, со звездами. Я пошел по тропке, вышел на набережную. Порт переливался огнями, до самых дальних причалов, вода блестела в ковшах, [17] и весь он ворочался, кипел, посапывал, перекликался тифонами и сиренами, и отовсюду к нему спешили — толпами, врассыпную, из переулков, из автобусов.
На углу Милицейской я стал. Четверть десятого было на часах. Она уже там. Она минута в минуту приходит. Не то что я к отходу. Монеты у меня для автомата не было, но я зато способ знаю.
Подошел там к трубке мужчина.
— Нельзя, — говорит, — она в лаборатории. Мы по личному делу…
— Ах, какая жалость! А то к ней брат приехал…
— Из Волоколамска? Так и есть, нарвался на очкарика.
— Ну, нельзя — не зовите. Только передайте: тот самый звонил, ему сегодня в море, просил ее прийти на причал. — Я ему сказал, какое судно и как найти причал. — Запомните?
С кем-то он там пошептался и ответил:
— Хорошо, я постараюсь.
— Вы-то не старайтесь, пусть она постарается.
— Она… по-видимому, придет. Если сможет. Больше ничего?
— Нет, спасибо.
Так мы с нею и пообщались.
Мне еще нужно было в кадры — это рядом, на спуске: избенка в один этаж, стены внутри голубые, облупленные, карандашами исписанные вкось и наискось, увешанные плакатами: "Рыбак! Не выходи на выметку без ножа", "Не смотри растерянно на лоно вод. Действуй уверенно, используй эхолот!", "Перевыполним план годового улова тресковых на трам-тарарам процентов". Пять или шесть окошек выходят в коридор — в такое окошко лица не увидишь, только руку просовываешь с документами. И народ здесь толчется с утра до ночи, атакует эти окошки, — кажется, век не пробиться. Но это кажется. Я вломился в коридор и заорал с порога:
— Бичи! Пустите добровольца!
Расступились. Девица даже выглянула из окошка.
— Это ты доброволец?
— Ага. Выдай мне билетик на пароход. Срочно!
— Выбирай любой. Какой на тебя смотрит?
— Восемьсот пятнадцатый.
— Привет! Ушел уже.
— Не может быть, — говорю. — Отход на восемь назначен. А сейчас только полдесятого. Вон у тебя и роль еще на столе.
— Ой, ну надо же! — захлопотала. — Неужели я еще не отнесла!
Бичи мне дышали в затылок, смотрели, как она меня оформляет.
— Ты гляди! — Один говорит другому. — В Норвежское идут под селедку. Ну, юмористы!
— Надеются, значит, — отвечает другой.
— Ты шутишь! Какая же в январе селедка?
— Так это ж не я иду. Это ж они идут.
Девица мне выбросила направление и закрылась. Бичи повздыхали и ушли перекуривать. А я дальше — крутиться по карусели. И часа не прошло, как выкрутился — со всеми печатями.
На спуске народ уже валом валил по мосткам. Я вклинился и зашагал — как рыбешка в косяке. Снег скрипел под ногами, скрипели доски, и с нами облако плыло, от нашего дыхания; мы в нем шагали, как в тумане. У проходной разделились на три рукава, потекли мимо милицейских. Портовые шли налегке, ну, а меня с чемоданчиком остановили.
Спиртного при мне не было. Даже милиция выразила удивление:
— Небось, через проволоку передал?
— Святым духом, — говорю, — по воздуху.
— А много? — смеется милиция.
— Да штуки три.
— Это еще не много. Вот сейчас кочегара задержали — восемь поллитров в штанинах нес.
— Анекдот, — говорю. — Конфисковали?
— Ну, так если вываливаются — это ж не дело! Надо, чтоб не вываливалось.
— Правильно, — говорю.
— Счастливо в море!
Народ растекался по причалам, по цехам, по пакгаузам. Знакомые меня приветствовали — машинист с локомотива, доковые слесаря, девчата с коптильни, с рефрижераторов; я им улыбался, помахивал рукой и шел себе, не задерживался, пока не уперся в шестнадцатый причал. Здесь мой «Скакун» стоял — весь в инее, как обсахаренный. Грузчики-берегаши нaбивали трюма порожними бочками. Кран с берега подавал их в контейнере, контейнер зависал над люком и рассыпался, и бочки летели в трюм с грохотом.
У трапа чудак скучал с вахтенной повязкой — две синих полосы, между ними белая, поглядывая на берегашей и поплевывая в воду. Не нравилась ему такая работа. Я ему подал направление и матросскую книжку. Он приложил их к пачке, а сам нa мою курточку загляделся.
— Матросом идешь?
— Матросом.
— Хорошо. — Не знаю, что тут особенно «хорошо», но так уж всегда говорится. — А я третьим штурманом.
— Тоже хорошо.
— Медкомиссию прошел? В этом году не надо. А венеролога? Не намотал на винт? Ангел меня сохранил.
Ростом третий штурман был меня ниже, а вида ужасно задиристого. Где-то шрам себе заработал через всю щеку. Когда он смеялся, шрам у него белел, и лицо ощеривалось, вся улыбка из-за этого пропадала.
— Отойдем сегодня? — спрашиваю.
— В три часа, наверное. А может, и завтра. Капитана еще нет. А ты почему опаздываешь?
— Оформляли долго.
— Оформляли! Дисциплина должна быть. Курточку — не продашь?
— Нет.
— И не надо. Раз опоздал — будешь вахтенным. Повязку надень.
Он мне отдал свою повязку и сразу повеселел.
— В контору сбегаю. Лоции надо взять и аптеку.
— Так и скажу, если спросят.
— Ну, молоток! Последи за берегашами. Видишь — как бочки швыряют. Все клепки разойдутся. Ты покричи, чтоб кранец подкладывали.
— Покричу обязательно.
— Надо, знаешь, хоть покричать.
Мы друг друга поняли. Если кранец подкладывать, покрышку от грузовика, это нужно каждую бочку кидать отдельно. Так мы и через неделю не отойдем.
— А заскучаешь, — сказал третий, — на камбузе собачка сидит, Волна, поиграешь с ней. Сообразительный песик.
— Обязательно поиграю.
— А может, махнешь курточку?
— Нет.
Он сбежал по трапу и скрылся. А я пошел устраиваться. Кубрики на СРТ носовые, под палубой. В каютке дрифмейстер с боцманом живут; в двух кубриках, на четыре персоны и на восемь, вся палубная команда. Но туда, где четыре, мне и толкаться нечего, там "Рыбкин" [18] поселяется, помощник дрифмейстера, бондарь и какой-нибудь матрос из «старичков», из ветеранов этого парохода. Ну, а я уж как-то на любом судне молодой, мне — туда, где восемь. Я скинулся по трапу, толкнулся в дверь, а на меня — дым коромыслом, и пар от горячего камелька, и веселый дух от стола, где трое сидело с дамами.
— Здорово, папуасы!
— Будь здоров, дикарь! С нами идешь? Присаживайся.
— Нельзя мне. На вахте.
— А что на вахте — Богу молятся?
Я поглядел — ни одного знакомого рыла. И койки пока все заняты. Одни шмотками завалены, а в других лежали по двое, обнявшись намертво, шептались; из-за занавесок выглядывало по четыре ноги: две в ботинках, две в туфельках. Так он и будет, этот шепот прощальный, — до самой Тюва-губы. Потому что порт — это еще не отход. Вот Тюва — это отход. Там мы возьмем вооружение: сети, троса, кухтыли, возьмем солярку и уголь для камбуза, проверим компас, в последний раз потопчем берег. Потом отойдем на середину залива, и к нам причалит пограничный катер. Всех нас соберут в салоне, лейтенант возьмет наши паспорта и выкликнет каждого по фамилии, а мы отзовемся по имени-отчеству. Знаем дело, не первый год за границу ездим. А солдаты тем временем обшарят все судно и выведут этих женщин на палубу — отвезти назад, в порт. Дело уже будет к ночи, в Тюве сколько можно прокантуемся, хотя там делов часа на четыре, не больше. Тут мы в последний раз этих женщин увидим под нашим бортом, под прожектором, будем орать им: "Ты там смотри, Верка, или Надька, или Тамарка, гулять будешь — узнаю, слухом земля полнится и море тоже, мигом аттестат закрою, и кранты нашей дорогой любви!" А они снизу: "Глупый ты, Сенька, или Васька, или Серега, говори да не заговаривайся, люди же слушают, когда же я от тебя гуляла, я себя тоже как-нибудь уважаю!" И катер нырнет в темноту, покачивая топовым, [19] повезет наших наивернейших жен, невест и подружек, — я за них ручаюсь, с кем-нибудь из этих и я вот так же прощался.