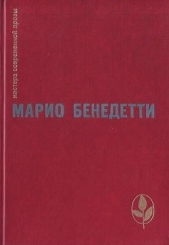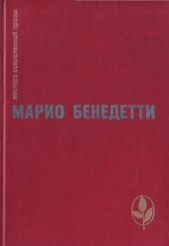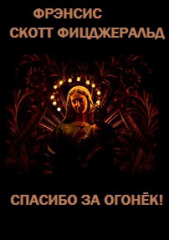Спасибо за огонек
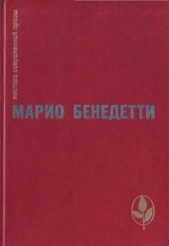
Спасибо за огонек читать книгу онлайн
Проза крупнейшего уругвайского писателя уже не раз издавалась в нашей стране. В том "Избранного" входят три романа: "Спасибо за огонек", "Передышка", "Весна с отколотым углом" (два последних переводятся на русский язык впервые) — и рассказы.
Творчество Марио Бенедетти отличают глубокий реализм, острая социально-нравственная проблематика и оригинальная манера построения сюжета, позволяющая полнее раскрывать внутренний мир его героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Весьма благодарен, тетя.
— Ну-ну, Рамонсито, не обижайся, ты ведь знаешь, что из моих племянников ты у меня самый любимый, не только потому, что был товарищем моего дорогого малютки и единственным, кто видел, как он закрыл свои небесные глазки, потому что я, несчастная, уснула тогда как идиотка…
— Платочек у вас в рукаве, тетя.
— Спасибо, мой мальчик. Не только поэтому, но еще и потому, что Уго с каждым днем все больше опускается, ему уже тридцать с лишком лет, семь лет женат, имеет должность бухгалтера, и нет надежды, что он переменится. Но и не только поэтому. А еще потому, что дочки Сесилии любят надо мною подтрунивать, и чем дальше твои кузины от меня держатся, тем для меня лучше. Да, ты у меня самый любимый.
— Спасибо, тетя.
— Но так же откровенно скажу тебе, что твой отец совсем другое дело. Он человек с большой буквы. Понимаешь? Но это не означает, что ты хуже его или лучше, это просто означает, что ты славный человечек с маленькой буквы. Таких, как он, теперь нет людей. Таких надежных, таких изящных, таких приветливых, таких сильных, таких жизнерадостных.
— Черт побери, тетя.
— Мне так приятно говорить с тобой и особенно приятно, что ты не забываешь меня. Знаешь, я тебе так благодарна за предложение прогуляться, будто и в самом деле пошла с тобой. Но я предпочитаю посидеть дома. Надо одеваться, причесываться и все прочее. Из-за ревматизма это для меня ужасно трудно. При том что теперь мне гораздо лучше благодаря кортизону. А как твоя жена?
— Ничего, здорова. Она не передала вам привета, потому что, когда я с ней завтракал сегодня утром, я еще сам не знал, что пойду к вам.
— Твоя жена — чудо. А Густаво как?
— Не видел его со вчерашнего дня. Готовится к истории. Литературу сдал на три…
— Я знаю. Сусанна мне звонила.
— Ну, тетя, я пошел. Рад был видеть вас такой красивой.
— Ты восхитителен, Рамон.
Зря я отдал машину в ремонт. Привод сцепления еще недельку бы поработал. Ехать в автобусе слишком жарко, особенно стоя от перекрестка улиц Восьмого Октября и Гарибальди. А если отправиться домой? Уверен, что работа над программой «Путешествие-Источник-Радости» будет идти и без моего надзора.
— Вы свободны? В Пунта-Горда. Можете проехать по Анадору, Пропиос, Рамбле.
Ох, как я устал. Оттого, конечно, что ничего не успел. Что там знает тетя Ольга. Мне больно, сказала Мама за четыре часа до смерти. Она была так слаба, так истощена. То был единственный раз, когда я по-настоящему был с ней близок. Долгие годы звучал в моем мозгу неумолчно, неотступно, мучительно этот голос: я не могу, Эдмундо, не могу. Мне казалось, что открыться ей было бы почти то же, что пройти в дверь и увидеть их, голых, борющихся, увидеть, как Старик ее бьет. Целую неделю она ходила в темных очках. Она подала, нет, подает мне руку. Иссохшую руку, одни кости. И как раз когда я ее обрел, она от меня ушла. Мама, меня пеленавшая. Мама, надевавшая на меня три пары чулок, потому что ноги у меня были как две палочки и ей было стыдно моего стыда. Мама, готовившая мне каждую субботу флан [81] и с гордостью говорившая о моем зверском аппетите. Мама, полная молчаливого сочувствия, когда Старик называл меня тупицей или еще похуже. Ее глаза смотрят на меня из темных глубин. Они не спрашивают, они все знают. Они просто говорят. Я знаю, что она любит меня, может быть, даже сильнее, чем Уго, но с этой ужасной болезнью в животе какие надежды могу я возлагать на ее любовь? С этими рвущими плоть щипцами внутри могу ли я требовать, чтобы она помнила обо мне и любила меня? С этим адом. Да, и она тоже смотрит поверх моего плеча, смотрит на Старика. Но это не тот взгляд, что у Густаво. Во всяком случае, когда Старик уходит, в ее глазах появляется блеск — правда, очень слабый, такой жалкий огонек в глубине ее глаз. Я не могу защитить ее, а она говорит: мне больно. Выходит, от моей любви нет никакого проку. А если говорить начистоту — какой прок от бога? Вот проходят передо мной дни и недели, когда я ее не видел, вечера, когда я без причины где-то пропадал, вечера, когда она меня ждала ужинать, а я не приходил, все те минуты, когда мне хотелось ее обнять и я сдерживал себя. Да, теперь уже поздно, и незачем перебирать воспоминания. Нет смысла самому загонять себя в угол. Почему я чувствую себя таким опустошенным, обездоленным, не способным воспрянуть духом? Ах, Мама, бедная, милая Мама, неужто она вбила себе в голову, что должна умереть вот так, сразу? А я? Что со мной происходит? Мама, у меня нет слов, нет объяснений, нет оправданий, мне нечего сказать. Зато она сказала: мне больно. И ее боль, пронзая меня, вселяет страшную неуверенность. Наверно, это еще одно поражение, в ряду многих других, но в этом случае — Мое Поражение, потому что, когда Мама безнадежно закрывает глаза и шевелит губами и они кривятся в вечно непокорной судороге страдания, я чувствую, что во мне тоже что-то кривится, складываясь в такую же непокорную гримасу, судорожный протест против Небытия, ибо Бог, и Судьба, и Диалектический Материализм — это всего лишь лозунги, брошенные Авраамом, и Шпенглером, и Марксом не для того, чтобы нас формировать, трансформировать или реформировать, но для того, чтобы заставить нас забыть о единственно разумных и обязательных целях, например о самоубийстве или безумии. Теперь мне самому приходят на ум эти возможности, и я наияснейшим образом вижу мрак в себе, но я слишком хорошо знаю — ведь это уже не в первый раз, — что немного погодя я тоже все позабуду и поверю, что стоит жить и быть благоразумным. Такой же мираж, как многие другие. Мама говорит: мне больно. Но почему у нее потребность говорить это? Сказала бы она это, не будь меня здесь, не стой я здесь на коленях на ковре, прижавшись щекою к ее бессильной руке? Сказала бы она это, будь она наедине со Стариком, или с тетей Ольгой, или с Уго? Быть может, последним проблеском ее любви, последним пробившимся из полузабытья, в промежутке между убийственными болеутоляющими, было сознание, что я ее слышу? Она уже не выздоровеет, и я также, ведь смерть — это вторая плацента, объединяющая нас, подобно тому как жизнь была первой плацентой. И было бы полуправдой сказать, что только она испытывает боль: отражение ее боли — во мне, вроде того, когда болен желудок, то и сердце из-за него не может накачивать кровь как надо. И такое чувство у меня только по отношению к ней, и оно не исчезло бы, даже если бы она смотрела на меня с ненавистью или равнодушием. Не случайно Ребенка и Отца объединяет не плацента, не пуповина, а только неуловимый, микроскопический, блуждающий без цели сперматозоид, который случайно превратился в меня, а мог бы с таким же успехом отклониться куда-нибудь и вовсе исчезнуть. И если бы даже Старик не взглянул на меня, лишь чтобы сказать: тупица или еще похуже, если бы он не ухмылялся в душе, напоминая ничтожному Хавьеру, что «в конце концов» я его сын, тут все равно не будет плаценты ни в жизни, ни в смерти. В лучшем случае — а о таком здесь говорить не приходится — могло бы возникнуть душевное общение, дружба вроде той, что связывает меня с лучшим из моих друзей — а кстати, кто лучший? — пожизненная гарантия, что «даешь и получаешь», молчаливая солидарность в борьбе с постыдным, ужасным сознанием, что ты живешь, некое непринужденное равноправие. И даже это было бы неплохо. Думаю о такой немыслимой вещи без тени самодовольства — ведь и я в роли отца не сумел этого добиться. Между Густаво и мною нет ни враждебности, ни взаимных обид или разочарований, а просто чудовищное отчуждение, как если бы мы жили на разных этажах или же кто-нибудь взял на себя труд записать мои мысли в скрипичном ключе, а его мысли — в басовом. И вдруг рука Мамы вонзилась, нет, вонзается ногтями мне в щеку и тотчас сползает, будто желая загладить ссадины или стереть кровь. Но это всего лишь «будто». Движение ее непроизвольно, это смерть. И я издаю два вопля. В одном удивление и собственная поверхностная, кожная боль, в другом ужасная уверенность, бесполезное «прости», ребяческий страх. Пятое ноября. Вспомнил бы я этот день, секунда за секундой, миллиметр за миллиметром, как человек, рассматривающий поры кожи в сильнейшую лупу, если бы она этим последним движением не ранила меня? Кто меня убедит, что то не был поспешный, отчаянный, последний знак любви? «Ча-ча-ча, какая прелесть ча-ча-ча».