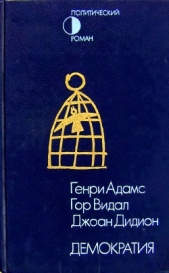Медленные челюсти демократии
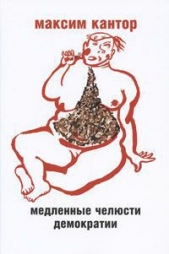
Медленные челюсти демократии читать книгу онлайн
Максим Кантор, автор знаменитого «Учебника рисования», в своей новой книге анализирует эволюцию понятия «демократия» и связанных с этим понятием исторических идеалов. Актуальные темы идею империи, стратегию художественного авангарда, цели Второй мировой войны, права человека и тоталитаризм, тактику коллаборационизма, петровские реформы и рыночную экономику — автор рассматривает внутри общей эволюции демократического общества Максим Кантор вводит понятия «демократическая война», «компрадорская интеллигенция», «капиталистический реализм», «цивилизация хомяков», и называет наш путь в рыночную демократию — «три шага в бреду». Книга художественная и научная, смешная и страшная, — как сама наша жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пунктом третьим я бы поставил перспективу. По понятной причине воплощения духовной иерархии, вне этой лестницы восхождения и нисхождения, вне этой конструкции бытия нет и не может быть христианского образа. Немудрено, что языческое творчество принципиально плоско и не способно выстроить никакого движения в глубину. XX век создал систему знаков и идолов в уплощенном пространстве. Видеть мир далеко и отвечать за все его пространство — привилегия гуманистического искусства.
Пункт четвертый — преодоление времени. Искусство, помимо прочих функций, свидетельствует об эмоциональных, нравственных и духовных возможностях человека — тем хотя бы, что оно их исчерпывает. Хорошая картина есть верхний градус чего-то, что за неимением лучшего слова можно назвать интеллектуальным, душевным напряжением. Из века в век искусство поддерживает этот градус напряжения и старается даже превысить его. Добавляя немного к уже сказанному, наделяя дополнительным смыслом существующее, искусство делает существование человека историчным, то есть уравнивает личность с миром. Как есть история народа, так есть история слова, история звука, история цвета. В рембрандтовском красном живет красный помпейских фресок, в ван-гоговском красном живет и красный Рембрандта, и красный Античности. Сама плоть западноевропейского искусства есть плоть истории. Поверх явной и сплошной разлуки, выражаясь словами Цветаевой, мы живем несмотря на смерть и тлен, несмотря на войну и гибель — мы живем общей семьей, в объединяющей нас любви.
Исходя из вышесказанного, понятно, что главные жанры в христианском искусстве это — портрет как явление образа; роман как описание всей жизни; симфония как упорядочивание чувств. XX век, отказавшийся от всех трех разом, отказался не просто от старых форм, но от форм, обуздывающих стихию, отказался от «воплощения» — а это для искусства Запада равносильно склонению перед язычеством. Сколь бы ни было желанным для современной демократической империи это состояние — состояние последовательно перемещаемых кредитов — однажды языческий характер демократии окажется неприемлемым.
Из сложившейся ситуации может быть лишь один выход. Искусству Запада надлежит совершить новое усилие, восстать против авангарда и добиться нового Возрождения. Авангард сумел задушить несколько революционных попыток в двадцатом веке — но это вечно продолжаться не будет.
Отказаться от авангарда, разумеется, трудно — он вошел в наше общество естественно, как природная сила, неумолимо, как война, закономерно, как всякая контрреволюция. И он останется в западном обществе навсегда — самоуверенный и наглый, с погонами и лампасами, и ничего с этим жирным генералом уже не поделать. Вот он сидит на трибуне, и марширующие толпы салютуют ему — освободителю и преобразователю, гаранту свободы и самовыражения, а генерал скалится и машет ручкой в лайковой перчатке.
Ничего не поделаешь, надо набраться сил на новый бунт. Надо лишь отнестись к авангарду не как к искусству, но как к материалу, из которого и будет выплавлено грядущее образное творчество. Из пустых знаков, из крикливых цветов, из пестрой суеты — нами будет сложен новый собор, вырублена новая статуи. Из плакатов и декретов, из реклам и модных дефиле, из расслабленной лени авангардных салонов — возникнет новое образное искусство. Эпоха декоративной демократии будет преодолена — а ее языческие символы пойдут в переплавку. Образ создавать не из чего, кроме как из реальности; что же делать, если наша реальность — пестра, глупа, мелка. Значит, работать надо с этим материалом.
Так некогда поступал Микеланджело, так поступит новый век со своим языческим наследием.
Это произойдет не в первый раз — потому оно и Возрождение, что умеет возрождаться. Однажды власть и культ не смогут обеспечить векселя, однажды рухнет система кредитов и долговых расписок. Однажды люди увидят, что квадрат — это всего-навсего квадрат, полоска — не более чем полоска, а власть, которая не может накормить голодных, — дурная власть. И тогда авангард, как всякая знаковая система, придет в негодность. И тогда жирному генералу — авангарду — предъявят счет.
Тогда придется платить по долгам. И Ренессанс, и революция требуют расплаты наличными.
ПАЛАТА № 7
1. Вечный кайф проклятых вопросов
Считать ли Россию Европой? Демократия — это гуманизм? Умирает ли искусство? Кончилась ли история? У интеллигенции накопилось много проклятых вопросов.
Проклятыми эти вопросы называют, имея в виду их вечную актуальность — однако когда слышишь их снова и снова, поневоле кажется, что вопрошающий безумен. Ну для чего же опять про то же самое? Повторяемые до бесконечности вопросы уже не нуждаются в ответе — определенность испортит удовольствие от беседы. Такой тип вопросов характеризуется общим свойством — умеренной глобальностью. Они только как будто о главном, а на самом деле — об удобном. В общем-то решительно все равно, как на эти вопросы отвечать. Допустим, Европа закатилась, искусство умерло, история кончилась тоже. И что теперь? Такого «теперь» вопросы не допускают — вся прелесть в их перманентном характере, в бесконечности конца и незакатности заката, в том особом поле сомнений, которое называется «интеллигентностью». Согласитесь, если бы решительно все подряд закатилось, издания журналов пресеклись бы также — а это невозможно себе и вообразить, ведь проклятым вопросам надобно где-то дебатироваться.
Не имея отношения к точным наукам, эти вопросы равно не имеют отношения и к метафизике. Историю и экономику, религию и философию они затрагивают по касательной, никаких определенных концепций не порождают — но для участия в спорах необходимо специальное состояние души, такое ажитированное умонастроение, которое сообщает словам нужный напор. Обсуждение проклятых вопросов требует некоторого навыка, Платон сказал бы «сноровки», этот навык и эта сноровка выделены сегодня в специальную дисциплину — «культурологию». Культурология, вообще говоря, есть не что иное, как современная идеология: в ведении культурологии находится то главное, из-за чего и начались перемены в нашем обществе: неказистое бытие России, не вполне соответствующее цивилизованным стандартам. Россия — она как нежинский огурец, неудобный для супермаркета, бросающий вызов другим огурцам, которые имеют соответствующую длину и общепринятый окрас. Предполагается, что сноровка культуролога поможет эту разницу сгладить. Из обсуждения проклятых вопросов должна в свое время проявиться наша судьба — еще немного поговорим, и станет совсем ясно, как жить. Рецептов полно: прогрессивное и актуальное искусство, империя по типу петровской, денежная эмиссия, символический обмен, античные виллы в Подмосковье.
Сегодня, когда интеллигентные беседы неожиданно стали чем-то вроде индульгенций для политики и делопроизводства, культурологов в нашем обществе стало столько же, сколько в советском обществе было комсомольских секретарей. Кого ни возьми — и тот культуролог, и этот.
2. Ответственный за всечеловечность
Важен не ответ, важно, кто задает вопрос и почему. В России это особенно важно. Поскольку означенный свод вопросов традиционен для российской интеллигенции, такой тип мышления суть ее родовой признак. Подобные вопросы интеллигенты задавали из чувства вины перед народом за свою относительно комфортную жизнь, из желания стать просветителями, из невозможности цивилизовать начальство — словом, из комплекса чувств, знакомых нам по романам Достоевского и рассказам Чехова.
В 30-е годы интеллигенцию определяли как «прослойку», трудновычислимую социальную страту, попутчицу пролетариата и крестьянства. Ведя родословную аж от декабристов и Пушкина (такой счет не слишком точен, однако разночинец, а за ним и советский интеллигент думал о декабристах как о прямых этических учителях и предшественниках), интеллигенция негодовала на бюрократическое определение «служащий». Интеллигент болел за свой народ и был готов на жертву, он чувствовал себя ответственным за права и свободы — какой же он служащий? Служение — но не служба, вот путь русского интеллигента. Служат — чиновники, ненавистная государственная каста, держиморды и опричники. Как определить интеллигенцию точнее, нежели через понятие «служащие», сказать затруднялись, но безусловно интеллигенция заслужила отдельной от инженеров судьбы. И действительно, инженер вскоре перестал существовать, а интеллигенция оформилась в совершенно определенный, вполне сформировавшийся класс. У этого класса в ведении оказалось самое существенное орудие производства — идеология. Свидетельством того, что интеллигенция оформилась как класс, стало появление классового самосознания, обозначение своей позиции по отношению к другим классам. В случае с начальством — сложные договорные отношения на выполнение социального заказа, в случае с народом — замена прежних прекраснодушных обещаний трезвым подсчетом выгод и потерь. Сострадание к народу как к еще более угнетенному и слабому, чем сама интеллигенция, сменилось подозрительностью и обдуманным презрением.