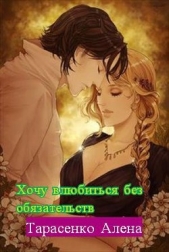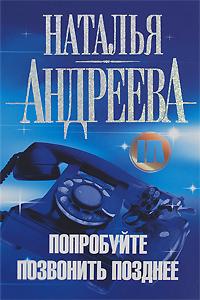Позднее время
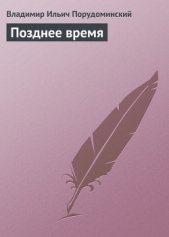
Позднее время читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я люблю легенду о Моисее и пастухе. Однажды Моисей увидел в поле пастуха, который совершал какие-то странные движения, взмахивал руками, подпрыгивал, кричал что-то несуразное, обратив лицо к небу. Приблизившись, Моисей понял, что пастух молится. «Разве так учил я вас молиться!», — разгневался пророк и замахнулся на пастуха посохом. Но тут из вышины раздался голос Бога: «Оставь его, Моисей! Разве ты не видишь? — Он любит Меня. Он молится от всей души, как умеет»...
Когда Алик умирал и наши разговоры, всегда откровенные, достигли уже предельной откровенности (наверно, лучше назвать ее беспредельной), он сказал мне, что всегда, что бы ни делал (а сделал он как ученый и как наставник ученых очень много), полагался на себя самого, Бог не участвовал в его расчетах: человек — творец своего земного существования, а иного существования в системе эволюции не предусмотрено. Алик умирал прекрасно, целиком отдавая себя своему наполненному делом земному существованию: последние месяцы жизни он именовал «болдинской осенью». Он верил в земное как в высшее и строил земное как высшее. То, что наука и вера в Бога — понятия противостоящие, было для него не заученной с пионерских времен формулой, а ясным, выношенным убеждением. Я напомнил ему про великое Быть Может, он невесело усмехнулся и отвечал, что для него это не более, чем обычное быть НЕ может. Быть Может означает недоказуемое, тогда как наука требует четких обоснований и доказательств. Странно, но при этом Алик был суеверен: перебежавшая дорогу кошка могла омрачить ему настроение. Перед смертью его томило одно логически никак не обоснованное совпадение, которому он придавал мистическое значение. Может быть, суеверие — перебежавшая дорогу кошка — по-своему удовлетворяет потребность в вере. Человек живет с ожиданием осуществления ожидаемого и уверенностью в невидимом, как определил веру апостол Павел, — без этого невозможно действовать в пределах земного существования; вне его пределов очевидно должна отсутствовать и сама потребность в вере. Суеверия, отвергаемые церковью, стараются обнаружить таинственную связь (подчас, без сомнения, кажущуюся или вовсе ложную) явлений и предметов, ни по сути своей, ни логически не сопрягаемых друг с другом. Но сам факт возникновения суеверия более значим, нежели его содержание. Паскаль, олицетворявший сложное единение науки и веры, назвал три рода людей: одни нашли Бога, другие не нашли Его, но стараются отыскать, третьи не нашли и не ищут. Но нельзя ли предположить, что и сам Бог (иной раз через суеверие) ищет, старается отыскать человека. Библия полнится суевериями. А для неверующего сам Бог — суеверие. У Паскаля читаем, что непостижимое тем не менее существует. (Мой Владимир Иванович — Г.З. — был, похоже, неравнодушен к Паскалю.)
В книге «Быт пушкинского Петербурга» (единственная, которую я осилил за долгие больничные месяцы) нашел использованный вместо закладки листок из календаря. На листке — несколько слов, нацарапанных карандашом: попытка записать то, что хотелось запомнить.
...Ночная сестра уже давно выключила свет, но сна ни в одном глазу. На душе светло, спокойно, словно бы меня и нет вовсе. Вдруг я чувствую, кто-то кладет мне на лоб теплую, тяжелую ладонь, и даже слегка нажимает, чтобы я почувствовал, что у меня на лбу лежит рука. И в этот момент справа, в темном окне, возникает кусочек пейзажа, именно кусочек — он занимает не все окно, только часть, будто картина повешена на черноту стекла. Идущая из глубины истоптанная полоса дороги, по обе ее стороны серые пыльные кусты, затянутое облаками небо. По дороге движется ко мне седой сгорбленный старичок в монашеском одеянии, похожий на нестеровского пустынника, он подходит совсем близко, говорит что-то, я не схватываю (или уже не помню), чтó, обернувшись, показывает мне на кого-то, кто следует за ним, и исчезает. Я вижу на дороге пятно неяркого света и лишь постепенно различаю в середине пятна женскую фигуру. Окутанная светом, так, что облик ее рассмотреть невозможно, женщина будто плывет над землей. Свет мягко облегает ее контур, не распространяясь вширь, не освещая ничего кругом. Она как бы втекает в помещение, где я нахожусь, склоняется надо мной, произносит: «Это тебе» — и тоже исчезает. У меня в ногах остаются три положенных один на другой ломтя серого хлеба, отрезанных от кирпичной буханки (в последние десятилетия я таких буханок и не видел, разве что в дальней провинции где-нибудь). Хлеб несвежий, обветренный, верхний кусок — от края, корка, мякоть на нем уже кем-то выщипана, выедена. Я обеими руками беру хлеб и начинаю жадно есть, кусая сразу все три куска поперек, как бутерброд. Когда хлеб съеден, меня охватывает радостное чувство ожидания чего-то неизведанно хорошего. Я по-прежнему лежу без сна и смотрю на упирающуюся в мое окно пустую дорогу. Понемногу меня начинает донимать желание поесть еще такого хлеба, я гоню желание прочь, полагая, что грешно требовать большего, чем получил. Но вдруг снова слышу голос: «Это тебе» — и тут же нахожу на столике возле кровати несколько сухарей из той же буханки, длинных, нарезанных во всю длину ломтя. Я съедаю их, размачивая в стоящем на столике стакане с минеральной водой. Спустя некоторое время голос раздается в третий раз — те же слова, — и тут посреди окна вместо дороги оказывается округлая, как земное полушарие, гора, — приглядевшись, я понимаю, что это не настоящая гора, а огромная сайка, почти вломившаяся в мою палату: «Это тебе». Во рту, на языке, забытый вкус крутого, кисловатого теста. Мне так хорошо, что я не могу сладить с нахлынувшим чувством. Резко нажимаю звонок и прошу у поспешившей на зов ночной сестры снотворное...
Однажды ночью, по причине сильного недомогания, меня доставили из обычного отделения, куда я был уже переведен, обратно в реанимацию, и там, к моей радости, вручили попечению оказавшегося на дежурстве Г.З. Склонившись надо мной, он сосредоточенно колдовал со шприцами и капельницами. Недомогание потихоньку отступало, душа успокаивалась, веки тяжелели, устало и преданно я смотрел на Г.З., иногда и он ловил мой взгляд, чудилось, сейчас скажет что-то, но он, по обыкновению, молчал, как всегда молчал здесь.
Усталость потворствует власти здравого смысла, а здравый смысл со злорадной внятностью нашептывал мне, что все бессчетно повторяющиеся встречи с Г.З. (Владимиром Ивановичем), все их сюжеты, обстоятельства, подробности, такие живые, ощутимые, достоверные, — всё небыль и совершенная невозможность, что пространство моей жизни ограничено обтянутым простыней прямоугольником кровати, находящейся в двух тысячах километрах западнее Москвы и примерно втрое дальше на восток от Нью-Йорка, — так что какие тут могут быть Красные ворота и американские гостиницы с круглыми комнатами. Даже недолгий путь из отделения до кабинета Г.З., где я теперь находился, я проделал, не слезая с кровати, — ноги мои заново ходить пока не научились, — ни при каких особых обстоятельствах я не в силах обычным образом самостоятельно преодолеть это расстояние, чтобы задушевно побеседовать с дорогим другом, покурить заповедной травки...
Я поймал руку Г.З. и задержал в своей. «Мне очень дороги наши беседы», — сказал я тихо. Г.З. осторожно, но быстро отнял руку и взглянул на меня печально и недоуменно. «Неужели это ответ? — подумал я. — Но я так много знаю об этом человеке, чего он, скорей всего, и сам в себе не предполагает, я так долго и близко общался с ним, так много сокровенного между нами сказано... Неужели все это и впрямь соткано из ничего?.. И так ли уж обязана моя жизнь ограничиваться пространством, верноподданным здравому смыслу, этим прямоугольником кровати, обтянутом больничной простыней?..»
В отчаяньи надежд бесцельных // высокий ум поведал нам // способность линий параллельных // вдруг пересечься где-то там, // где за неведомой стеною// иная осень и весна, // где время движется иное, // пространств иная кривизна... // Мечта взамен путей прямых // ведет дорогой рудознатца // к пересечению прямых, // рожденных не пересекаться...