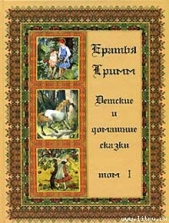Кошки-мышки
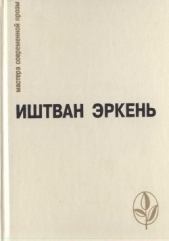
Кошки-мышки читать книгу онлайн
Грозное оружие сатиры И. Эркеня обращено против социальной несправедливости, лжи и обывательского равнодушия, против моральной беспринципности. Вера в торжество гуманизма — таков общественный пафос его творчества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Профессора Раушенига приглашали на консилиум к Сталину.
— Ты кому больше веришь?
— Раушениг — друг дома. Кроме того, в нашем кругу каждый ревниво следит, как поступит другой, равный ему по положению. То бережливость считается хорошим тоном, то вдруг — расточительность. В таких случаях идти наперекор просто невозможно.
— Не слушай никого. Поступай, как тебе лучше.
— Для меня лучше всего, если бы ты приехала ко мне.
— Не проси меня об этом.
— Я никогда ни о чем тебя не просила.
— Ты внушила себе, будто я тебе необходима. А стоит мне приехать, и ты во мне разочаруешься.
— Мы всегда понимали друг друга.
— Это когда было, Гиза! А теперь немало таких пунктов, в которых мы расходимся.
— Назови хоть один.
— Наш отец.
— Ты имеешь в виду мои слова о том, что папа умер прекрасной смертью?
— Я имею в виду ту заведомую ложь, в которую ты уверовала.
— Это не телефонный разговор.
— Каратели в кровь разбили ему лицо, Гиза.
— Повторяю, это не телефонный разговор.
— Ведь это мы сами выдумали, будто отца расстреляли красные. Иначе маме не видать бы пенсии.
— Ради тебя самой прошу, прекрати этот разговор!
— Имя папы упомянуто в списке жертв террора.
— Где упомянуто?
— В книге «Зверства белого террора в комитате Яс-Надькун-Солнок». Из жителей Леты в списке замученных только двое: наш папа и доктор Миклош Санто.
— По-твоему, в книгах не может быть вранья?
— Соврали мы сами. А ты поверила в эту нашу легенду.
— Пусть так, пусть его избили каратели. Какая тебе-то корысть от этого?
— Никакой.
— Тогда чего же ты добиваешься? Хочешь вечно хранить там память об отце?
— Я просто привела пример, чтоб ты сама убедилась: на некоторые вещи мы теперь смотрим по-разному.
— Ну, это один случай.
— Есть и другие, Гиза.
— Какие же?
— Виза на выезд. Она мне не нужна.
— У вас там что, райская жизнь?
— Не сказала бы.
— У тебя там ни одной близкой души.
— Верно.
— Ты обслуживаешь чужих людей.
— Вкусно готовить всегда было моей страстью.
— Но пойми, ты нужна мне!
— И ты мне — тоже.
— Тогда почему же ты не хочешь приехать?
— Потому, Гиза, что я хочу околеть здесь.
— Похоже, нам не сговориться.
— Да, Гиза.
— Так что же нам делать?
— Не знаю.
— Прощай, Эржи.
— Прощай.
11
Последнее письмо
Будапешт
Это письмо посылаю заказным и авиапочтой. Гиза, если ты действительно еще любишь меня, помоги, иначе я пропала! То, о чем я тебя попрошу, для меня — вопрос жизни и смерти. Вам же для того, чтобы все уладить, достаточно одного телефонного звонка или записки в несколько строк. Но я знаю, с каким недоверием Миши относится ко всем венграм, поэтому необходимо твое тактичное посредничество.
Я расскажу тебе все как есть, без прикрас, и тогда ты сама увидишь, до чего я докатилась. Утаивать так и так нет смысла, ведь, когда у меня возникли только смутные подозрения, ты уже обо всем догадалась. Факт остается фактом, что Паула, «та самая Паула» (и тут ты оказалась права), эта мерзавка, потаскуха, эта шлюха подзаборная (другого слова для нее нету), действительно опутала Виктора. И, с обворожительной улыбкой разглагольствуя за мраморным столиком в «Нарциссе» на музыкально-эстетические темы, при этом не брезговала самыми низменными средствами, чтобы отбить его!
Да только ведь меня — не то что Паулу — любят все официанты. (Точно так же, как почтальоны, продавцы в табачных лавках, мясники, хотя я и порядком ругаюсь с ними.) И вот этот симпатичный Фери — страдающий диабетом официант из «Нарцисса» — и открыл мне глаза. Правда, меня и саму насторожило, что Паула, которая, как известно, «лишена чувства времени», вдруг заделалась пунктуальной. Она стала приходить на встречи со мною минута в минуту, и, даже когда мы были уже вместе, она нет-нет да и взглядывала на часы, словно торопилась куда-то. Уходить она каждый раз стала раньше, всегда у нее оказывалось какое-нибудь неотложное дело. Дошло до того, что однажды она едва успела заказать кофе, как тут же выдумала какой-то предлог и даже не стала дожидаться, пока подадут. Расплачиваться пришлось мне. И вот, когда я доставала деньги, Фери кивнул на дверь и говорит: «Ишь как спешит в Буду госпожа Паула». У нее, говорю, безотлагательные семейные дела. Знаем мы эти «безотлагательные дела», говорит Фери.
Оказалось, что из «Нарцисса» недавно уволили девицу, которая обслуживала кофеварку; то ли она обсчиталась где, то ли сама кого обсчитала. Словом, девушка эта устроилась в одну кондитерскую в Буде. На днях она заходила за своим форменным халатом и рассказала, что Паула, видно, подцепила себе какого-то ухажера, потому что каждый Божий день они в той кондитерской встречаются и сидят в укромном уголке, друг к дружке прижавшись… «Ну, что вы скажете? — закончил Фери. — В ее-то годы!» Вы правы, сказала я, экая пошлость.
Я заподозрила неладное, но самого худшего, конечно, не предполагала. Без четверти восемь подхожу я к дому; в привратницкой дверь настежь, и кухонные ароматы — на весь подъезд. Принюхиваюсь: запеченный окорок. Что, говорю, у вас за праздник, милая, или вы теперь и по вечерам жарите-парите?
Хегедюш, привратница наша, трех дочек-гимназисток на ноги поднимает; вот она и подрядилась для желающих обеды стряпать, а дочки ее обеды эти разносят заказчикам на дом. И я — поскольку Паула стряпуха никудышная — еще в самом начале нашей дружбы порекомендовала ей эту привратницу, так что Паула не знала, как меня и благодарить… Тут меня будто толкнуло что, я — в привратницкую. И что же я вижу, Гиза? Ты, наверное, догадалась. Вижу куриный бульон, запеченный окорок, сдобное печенье и огромные судки для пищи, но тут же все у меня поплыло перед глазами, огненные круги замельтешили. Ухватилась я за стенку и плюх на стул. Лапшичкой или галушками, спрашиваю, заправляете бульон, милочка? Велено, говорит, крупными манными клецками. А что это вы с лица какая бледная сделались?
С полчаса я провалялась на диване, пока не прошел приступ удушья. Потом отправилась к Пауле. Как обычно, на звонок открыла дверь зубная докторша. «Вы к госпоже Каус?» — спросила она, и, как всегда, неприветливо. Я соврала, будто у меня болит зуб, и докторша тут же стала обходительнее. Через минуту я уже сидела в зубоврачебном кресле доктора Кауса, и задернутая портьерой дверь — единственное, что отделяло меня от комнаты Паулы.
Знаешь, сколько у меня зубов? Двадцать четыре собственных, и ни один не болит. Агоштон, докторша эта, конечно, сразу же обнаружила дырку в здоровом зубе. Спрашивает, сделать ли укол. Я говорю: не надо. Даже если бы она мне гвоздь загнала, я и то ничего бы не почувствовала, потому что в это время из соседней комнаты донеслось вожделенное причмокивание, и издавать эти звуки мог только Виктор.
Докторша начала сверлить зуб. Несколько раз она делала мне замечания, чтобы я не вертела головой. Слов я не могла разобрать, отчасти портьера приглушала, а отчасти бормашина, которая гудела над ухом, но, видимо, действует в нас какая-то особая сигнальная система. Ты меня знаешь, Гиза. Я долго могу терпеть, так что по моему виду ни о чем не догадаешься. Взрыв у меня наступает неожиданно. Некоторое время я сидела как истукан, так что даже докторша похвалила меня за дисциплинированность, но по долетавшим шорохам, звяканью посуды, обрывкам слов я уловила самый критический момент… Ты, конечно, осудишь меня. К сожалению, я чересчур энергично оттолкнула докторшу. Сорвала портьеру, о чем теперь тоже сожалею. Распахнула дверь и появилась там, как и предполагала, в самый подходящий момент.
Не стану уверять тебя, Гиза, будто бы я была совершенно спокойна; однако если бы я не увидела блюдо с потрошками и зеленью, я бы еще, пожалуй, могла совладать с собой. За столом, прикрыв необъятный живот столь же необъятной салфеткой-простыней, восседал этот старый негодник и со сладострастными стонами и всхлипываниями смотрел, как Паула наливает ему бульон. Это не было для меня неожиданным ударом. Увидеть, как бывший оперный певец, а ныне старик-пенсионер ест куриный бульон, — от этого еще никто не умер. Но когда я убедилась, что эта женщина, на которую я чуть ли не молилась, неделями и даже месяцами методично вытягивала из меня все самые сокровенные тайны, вот тут я закусила удила.