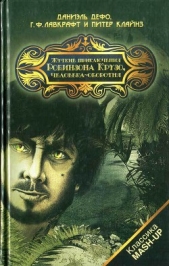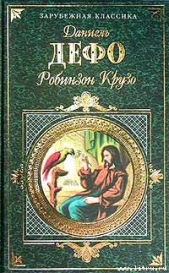Тропик любви
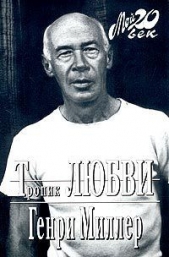
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ночью мы проплыли мимо горы в снеговой шапке. Кажется, снова остановились, теперь в Ретимо. Это было долгое, медленное возвращение морем, зато естественное, дающее прочувствовать весь путь. Нет лучше и расхристаннее судна, чем обычный греческий пароходик. Это ковчег, на котором собирается всякой твари по паре. Так случилось, что я сел на тот же пароход, каким прибыл на Корфу; стюард меня узнал и тепло поздоровался. Его удивило, что я все еще болтаюсь в греческих водах. Когда я спросил, почему его это удивляет, он напомнил, что идет война. Война! Я совершенно забыл о войне. Радио снова пичкало нас ею, когда мы садились за стол. Уж на то, чтобы накормить вас последними ужасами, прогресса и изобретательности хватает всегда. Я вышел из кают-компании пройтись по палубе. Ветер окреп, и пароход то взлетал на волнах, то ухал вниз. Эгейское, Ионическое — самые бурные внутренние моря Средиземного моря. Отличные моря. Отличная суровая погодка, как раз по человеку, бодрящая, возбуждающая аппетит. Маленькое суденышко в огромном море. Время от времени остров. Крохотная гавань, сверкающая огнями, словно японская сказка. Топочет по сходням домашний скот, орут дети, готовится пища, мужчины и женщины моются в трюме, плещутся в узком корыте, что твои животные. Дивный корабль. Дивная погода. Звезды, то нежные, как герани, то твердые и острые, как осколки скалы. Люди, расхаживающие в домашних ковровых тапочках, перебирающие четки, плюющие, блюющие, дружелюбно улыбающиеся, вскидывающие голову и гортанно кричащие «нет», когда надо бы говорить «да». На корме самые неимущие пассажиры — расположились табором на палубе, тут же их пожитки, кто дремлет, кто кашляет, кто поет, кто погружен в задумчивость, кто яростно спорит, но, спящие или бодрствующие, все они являют собой единство, в котором все равны и которое есть жизнь. Не та стерильная, болезненная, регламентированная жизнь туристов третьего класса, которую видишь на больших океанских лайнерах, но неотделимая от грязи, инфекций общая жизнь пчелиного роя, которою людям и следует жить, когда они совершают опасное путешествие по бескрайнему водному пространству.
Я вернулся в кают-компанию около полуночи, чтобы надписать небольшую книжку, которую обещал подарить Сефериадису. Ко мне подошел человек и спросил, не американец ли я, — он обратил на меня внимание за обеденным столом. Еще один грек из Америки, только на сей раз умный и интересный. Он был инженером и по заданию правительства занимался рекультивацией земель. Всей душой он был предан греческой земле. Он говорил о водных запасах, электростанциях, осушенных болотах, мраморных карьерах, месторождениях золота, гостиничных номерах, железнодорожном сообщении, строительстве мостов, санитарных кампаниях, лесных пожарах, легендах, мифах, поверьях, войнах в древности и сейчас, пиратстве, рыболовстве, монашеских орденах, утиной охоте, пасхальной службе и, наконец, после длинноствольных ружей, морских армад, двухмоторных феноменально маневренных бомбардировщиков «харрикейн» пустился в рассказ о резне, устроенной турками в Смирне, очевидцем которой ему случилось быть. Трудно сказать, какой из «инцидентов» в длинном списке злодеяний, который можно предъявить человеческому роду, более гнусен. Имя Шермана у жителя американского Юга вызывает мгновенную ярость. Даже самый круглый невежда знает, что имя Аттила связано с невероятными ужасами и вандализмом. Но то, что произошло в Смирне и что перевешивает ужасы Первой мировой войны или даже войны начавшейся, почему-то смягчено и почти стерто в памяти современного человека. Особый ужас этой катастрофы не только в жестокости и варварстве турок, а в позорном, безразличном молчании великих государств. Одним из потрясений, которые пережил современный мир, стало понимание того, что правительства в собственных эгоистических целях способны поощрять равнодушие, способны гасить естественный стихийный порыв возмущения людей зверским, бессмысленным кровопролитием. Смирна, подобно боксерскому восстанию и другим инцидентам, слишком многочисленным, чтобы все их упомянуть, была очередным предостережением: такая судьба ожидает нации Европы, судьба, которую они исподволь готовят себе интригами своей дипломатии, своим мелким барышничеством, культивированием нейтралитета и безразличия перед лицом явного зла и несправедливости. Всякий раз, когда я слышу о трагедии в Смирне, об издевательстве над мужеством армий великих стран, которые стояли в бездействии, повинуясь строгому приказу своих лидеров не вмешиваться, а в это время невинных мужчин, женщин и детей тысячами загоняли в воду, как скот, расстреливали, увечили, сжигали заживо, рубили руки, цеплявшиеся за борт иностранного корабля, я думаю о первом тревожном сигнале — что к этому все идет, — которому постоянно был свидетелем во французских кинотеатрах и которое несомненно повторялось на всех языках под солнцем, кроме немецкого, итальянского и японского, когда кадры кинохроники показывали бомбежку китайского города. [501] У меня есть особый повод помнить это: при первой демонстрации хроники с кадрами разрушенного Шанхая, улиц, усеянных изуродованными трупами, которые поспешно бросали на телеги, как хлам, во французском кинотеатре началось такое, чего мне еще не доводилось видеть. Французская публика была в ярости. Однако весьма трогательно, по-человечески, они разделились в своем негодовании. Тех, кто был в ярости от подобного проявления жестокости, переорали те, кто испытывал благородное возмущение. Последние, что весьма удивительно, были оскорблены тем, что подобные варварские, бесчеловечные сцены могли показать таким благонравным, законопослушным, миролюбивым гражданам, какими они себя считали. Они желали, чтобы их оградили от мучительных переживаний, которые они испытывают, видя подобные сцены, даже находясь на безопасном расстоянии в три или четыре тысячи миль от места событий. Они заплатили за то, чтобы, сидя в удобных креслах, посмотреть любовную драму, а по какой-то чудовищной и совершенно необъяснимой faux pas [502] им показали эту отвратительную картину действительности, и вот теперь их мирный, спокойный вечер, в сущности, испорчен. Такой была Европа перед нынешним debacle. [503] Такова теперешняя Америка. И подобное будет завтра, когда дым рассеется. И пока люди способны сидеть сложа руки и наблюдать за происходящим, в то время как их братьев истязают и режут, как скот, до тех пор цивилизация будет пустой насмешкой, словесным призраком, колеблющимся, как мираж, над ширящимся морем трупов.
Часть третья [504]
…Больше всего Греция поразила меня тем, что это мир, соразмерный человеку. Франция тоже производит подобное впечатление, но все же между ними есть разница, и разница огромная. Греция — дом богов; они, возможно, умерли, но их присутствие по-прежнему ощутимо. Боги были соизмеримы с человеком: их создал человеческий дух. Во Франции, как повсюду в Западном мире, эта связь между человеческим и божественным разорвана. Скептицизм и паралич, порожденные этим разрывом, изменившим самую природу человека, объясняют причину неизбежного крушения нашей нынешней цивилизации. Если люди перестают верить, что когда-нибудь станут богами, они непременно станут червями. Многое уже сказано о новом жизнеустройстве, которому суждено утвердиться на американском континенте. Нужно, однако, иметь в виду, что даже первых его признаков не увидеть еще по меньшей мере тысячу лет. Нынешний американский образ жизни так же обречен, как европейский. Ни один народ на земле не сможет разрешиться новым жизнеустройством, пока мир не поставит себе такой цели. На своем горьком опыте мы узнали, что все люди земли связаны теснейшими узами, но не сделали из этого знания разумных выводов. Мы видели две мировые войны и, не сомневаюсь, увидим третью и четвертую, — может, и больше. Не будет надежды на мир до тех пор, пока старый порядок не уничтожен. Мир вновь должен стать маленьким, каким был мир Греции, — достаточно маленьким, чтобы вместить всех. Пока в нем не найдется места для самого последнего из людей, не будет и настоящего человеческого сообщества. Разум подсказывает мне, что этого долго придется ждать, но разум подсказывает мне и то, что никакой меньший срок не удовлетворит человека. Пока он не станет воистину человеком, пока не научится вести себя как житель земли, он по-прежнему будет создавать богов, которые его уничтожат. Трагедия Греции не в гибели великой культуры, но в потере великой цели. Мы ошибаемся, когда говорим, что греки очеловечили богов. На самом деле все наоборот. Боги очеловечили греков. Был момент, когда казалось, что истинный смысл жизни постигнут, — миг, когда судьба всего человечества висела на волоске. Мгновение это исчезло в грандиозном пожаре, поглотившем хмельных греков. Они творили мифологию из реальности, недоступной их человеческому пониманию. Мы, очарованные мифом, забываем, что он рожден реальностью и ничем существенно не отличается от любых иных форм творения, кроме того, что имеет дело с самой основой жизни. Мы тоже создаем мифы, хотя, может, не сознаем этого. Но в наших мифах нет места богам. Мы возводим абстрактный, бесчеловечный мир из пепла иллюзорного материализма. Мы доказываем себе, что Вселенная пуста, — и руководствуемся в этой задаче собственной пустой логикой. Мы полны решимости завоевывать, и мы будем завоевывать, но завоеванное несет смерть. Люди бывают поражены и зачарованно слушают, когда я рассказываю, какое воздействие оказала на меня эта поездка в Грецию. Они говорят, что завидуют мне и им бы тоже хотелось когда-нибудь поехать в Грецию. Почему же они не едут? Потому что никто не может пережить какое-то желанное чувство, если он не готов к этому. Люди редко подразумевают то, что говорят. Любой, кто говорит, что жаждет заниматься не тем, чем занимается, или быть не там, где он есть, а в другом месте, лжет самому себе. Жаждать — значит не просто хотеть. Жаждать — значит стать тем, кто ты в сущности есть. Кое-кто, прочтя это, с неизбежностью поймет, что ничего иного не остается, как повиноваться своим страстным желаниям. Строка Метерлинка [505] об истине и действии изменила все мое представление о жизни. Мне потребовалось двадцать пять лет, чтобы окончательно осознать смысл этой фразы. Другие быстрей переходят от определения цели к действию. Но дело в том, что именно в Греции этот переход наконец произошел. Она спустила меня на землю, возвратила в подлинно человеческое измерение, подготовила к тому, чтобы принять свой жребий, и к тому, чтобы отдать все, что я получил. Там, на ступеньках гробницы Агамемнона, я воистину заново родился. Меня нисколько не волнует, что подумают или скажут люди, когда прочитают подобное утверждение. Я никого не хочу обращать в свою веру. Теперь я знаю, что какое-то влияние на мир может оказать поданный мною пример, а не мои слова. Этими записками путешественника я вношу свою лепту не в человеческие знания, потому что знания мои скромны и малозначащи, но в человеческий опыт. В моем рассказе, несомненно, есть ошибки того или иного рода, но истина состоит в том, что что-то произошло со мной и об этом я поведал здесь настолько правдиво, насколько умею.