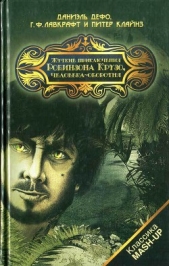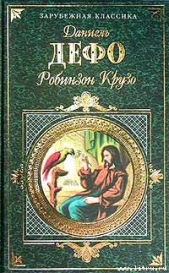Тропик любви
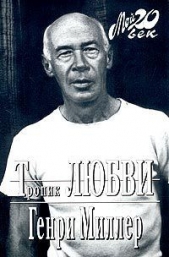
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В Ираклионе, когда мы туда приехали, почти не было следов дождя. В холле отеля меня дожидался господин Цуцу. Совершенно необходимо, сообщил он, срочно явиться к префекту полиции, который за последние дни несколько раз спрашивал обо мне. Мы тут же направились в полицейское управление. У дверей кабинета сидела бедно одетая женщина с двумя мальчишками в лохмотьях, пришедшая с какой-то просьбой к префекту, и больше в сияющем чистотой помещении никого не было. Нас незамедлительно пригласили войти. Префект встал из-за огромного совершенно пустого стола и быстро пошел нам навстречу. Я не был готов к встрече с таким человеком, каким оказался Ставрос Цуссис. Сомневаюсь, что во всей Греции нашелся бы второй подобный грек. Такая живость, такая резвость, такая церемонность, такая обходительность, такая холодная вежливость, такая безукоризненность во всем. Казалось, на него дни и ночи наводили глянец, что он ждал моего появления, что снова и снова репетировал каждое слово своего приветствия, пока не смог выпалить его без запинки и с абсолютным и ужасающим безразличием. Он был идеальным чиновником, какими их представляешь себе по карикатурам на немецкую бюрократию. Человеком твердым как сталь, но в то же время гибким, угодливым, любезным и нисколько не официальным. Его ведомство располагалось в одном из тех современных зданий, что похожи на бетонные казармы, где всё: люди, документы, кабинеты и мебель — удручающе одинаково. С неподражаемым искусством Ставрос Цуссис умудрился превратить свое бюро, хотя и небогатое, в пугающе безупречный храм канцелярской волокиты. Каждый его жест был преисполнен значительности; казалось, он нарочно убрал из кабинета все, что могло бы помешать его решительным движениям, твердым приказам, невероятной сосредоточенности на текущих делах.
С какой целью он вызвал меня? Это он немедля объяснил господину Цуцу, выполнявшему роль толмача. Как только он узнал о моем прибытии, то сразу стал искать встречи со мной, чтобы прежде всего выразить свое почтение американскому писателю, который милостиво соизволил посетить столь далекий уголок земли, как Крит, а во-вторых, чтобы сообщить, что его лимузин, ожидающий на улице, — в полном моем распоряжении, буде я пожелаю на досуге осмотреть остров. В-третьих, он желает, чтобы я знал, какие глубокие сожаления он испытывает оттого, что не удалось снестись со мной ранее, потому как день или два назад он устроил банкет в мою честь, на котором я, очевидно, не имел возможности присутствовать. Он хочет, чтобы я знал, какая это честь и удовольствие приветствовать в его стране представителя такого беспримерно свободолюбивого народа, каким является американский народ. Греция, сказал он, будет вечно признательна Америке не только за ту щедрую и бескорыстную помощь, которую она с таким великодушием предложила его соотечественникам в тяжелое для Греции время, когда все цивилизованные нации Европы, казалось, и впрямь бросили ее на произвол судьбы, но также за непоколебимую верность тем идеалам свободы, которые являются основой ее величия и славы.
Я был до того ошарашен сим торжественным выступлением, что на мгновение онемел. Но когда, едва переведя дыхание, он добавил, что будет счастлив, если я поделюсь своими впечатлениями о Греции, а особенно о Крите, я вновь обрел дар речи и, обернувшись к Цуцу, который готов был проявить всю свою изобретательность и помочь найти подходящее слово, пустился в столь же цветистые и восторженные ответные изъявления в любви к его стране и соотечественникам. Я говорил по-французски, потому что этот язык par excellence [499] подходит для всяческих словесных венков и гирлянд. Никогда, наверно, я не выражался по-французски с таким лицемерным изяществом и приятностью; слова скатывались с моего языка, как чистые жемчужины, и, нанизанные на крепкую основу глагола, с необыкновенной ловкостью, обычно заставляющей шалеть англосаксов, образовывали изысканные гирлянды.
Прекрасно, кажется, сказал префект, одобрительно сверкнув улыбкой сперва мне, а потом моему толмачу. Теперь мы можем перейти к другим вопросам, оставаясь, разумеется, неукоснительно вежливыми, неукоснительно comme il faut. [500] Где вы успели побывать за время вашего краткого пребывания у нас? Я в двух словах объяснил, где именно. Ну, это ерунда! Вы должны побывать там-то и там-то, везде, где хотите, — все в вашем распоряжении, и, словно желая показать, как легко это можно устроить, проворно отступил на полтора шага назад, нажал, не глядя, кнопку под столешницей, и в дверях мгновенно возник лакей, получил властное указание и так же мгновенно исчез. Меня так и подмывало спросить, откуда у него столь безупречная выучка, но я подавил свое желание, решив улучить для этого более благоприятный момент. Какой бы из него получился руководитель типичной американской корпорации! Какой коммерческий директор! А здесь он сидел чуть ли не один-одинешенек во всем здании — ни тебе публики, ни спектакля, пустая сцена, обычная тоскливая рутина провинциального города на краю мира. Никогда еще мне не доводилось видеть примера столь прискорбно нереализованных возможностей. Замашки у него были такие — и только Бог знает, какое безудержное честолюбие, задыхающееся в этом вакууме, — что он легко мог бы стать диктатором всего Балканского полуострова. Несколько дней спустя я видел, как он взял на себя ответственность и одним смелым росчерком пера определил судьбу бассейна внутренних морей на сотни лет вперед. Как бы обаятелен, любезен и радушен ни был префект, он внушал мне чуть ли не ужас. Впервые в жизни я встретился лицом к лицу с представителем власти, человеком, который мог сделать все, что взбредет ему в голову, более того — человеком, который ни перед чем не остановится для осуществления заветного желания. Я чувствовал, что передо мною человек, имеющий все задатки деспота, обходительный, определенно очень даже неглупый, но прежде всего безжалостный, с железной волей, стремящийся к одной цели: лидерству. Гитлер рядом с ним казался карикатурой, а Муссолини — актеришкой замшелой труппы Бена Грита. Что до американских великих промышленных магнатов из тех, что обожают видеть себя в кинохронике или в газетах, так они просто большие дети, гении гидроцефалы, которые играют динамитом, сидя на руках у лицемерных баптистских святых. Ставрос Цуссис скрутил бы их двумя пальцами, как шпильку для волос.
После того как обмен любезностями естественным образом завершился, мы с легким сердцем удалились. Женщина по-прежнему сидела у дверей с двумя своими оборванными сорванцами. Я пытался представить, как с ней будут говорить, предполагая, что вряд ли ей удастся переступить порог святилища. Я сунул одному из мальчишек несколько драхм, которые он тут же отдал матери. Цуцу, видя, что женщина собирается обратиться за более существенным вспомоществованием, мягко потащил меня дальше.
Ночью я решил, что назавтра уеду. У меня было предчувствие, что в Афинах меня ждут деньги. Я уведомил авиакомпанию, что не воспользуюсь обратным билетом. В любом случае, самолеты, как я выяснил, не летали — летное поле было еще слишком сырым.
Вечером я сел на пароход. На другое утро мы были в Кании, где и оставались почти до вечера. Я провел все это время на берегу, шатаясь по городу, заходя в таверны. Старая часть города, бесспорно, очень интересная, напоминала венецианскую крепость, каковою она явно была когда-то. Греческие кварталы, как водится, были сумбурны, беспорядочны, не похожи один на другой и эклектичны. Вновь вернулось ощущение, какое я часто испытывал в Греции, только на сей раз оно было намного сильней, — что едва силы захватчика иссякали или он на время прекращал набеги, едва власти ослабляли хватку, грек вновь возвращался к своей очень естественной, очень человечной, всегда неформальной, всегда понятной повседневной жизни. Что необычно и в подобных заброшенных местах проявляется особенно явно, так это внушительная власть замка, церкви, гарнизона, купца. Власть дряхлеет медленно, принимая уродливое обличье, и то там, то тут выставляет свою лысую сморщенную головку падальщика, дабы продемонстрировать еще не совсем угасшую волю, разрушительные результаты своей гордости, зависти, злобы, алчности, предрассудков, ритуалов, догм. Предоставленный самому себе, человек всегда все начинает заново на свой, греческий лад — несколько коз или овец, примитивная хижина, клочок земли под пашню, оливковая рощица, быстрый ручей, флейта.