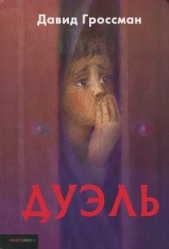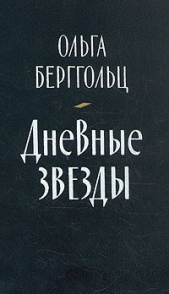См. статью «Любовь»
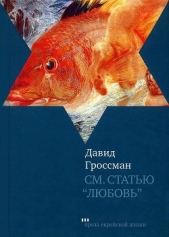
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты трус, — произнес он без всякого выражения. — Сожалею. Весьма сожалею…
Но Вассерман пробормотал про себя:
— Много в мире мудрости, да мало кому она впрок… Правильно рассудил я, что не захотел послать ему пулю в лоб. Иной жребий уготовил я этому Найгелю, но дело не только в этом — главное, не тот я человек, который ни с того ни с сего испортит хороший рассказ посередке. Разве не так, Шлеймеле?
2. Самоубийство Казика. (См. статью Казик, смерть Казика).
— возмужание, сон возмужания.
Все детство Казика прошло под знаком его живого, непоседливого характера, энергичного и даже несколько необузданного (см. статью детство). Необходимость беспрестанно следить за таким сорванцом жутко выматывала Фрида, в отчаянье носившегося за ним по всему дому. И вот наконец на несколько минут устанавливается тишина. Но и тут нет покоя. Без четверти три ночи, когда Казик достигает возраста шестнадцати с половиной лет, вдруг, в разгар неистового бега по коридору, сопровождаемого безумными воплями, звучным бабаханьем и пронзительным, режущим уши свистом, которые Фрид определяет как вселенский шабаш ведьм, беготня неожиданно прекращается, движения подростка становятся степенными, неторопливыми и даже несколько тяжеловатыми…
Фрид:
— Что ж, я уже был уверен, что это конец. Капут.
При тусклом свете лампы врачу показалось, что он видит серебристые искры, усеявшие все тело мальчика. Но когда он нацепил очки, то понял, что это не искры, а тонкие, почти прозрачные нити, на глазах у него все плотнее оплетающие фигуру Казика. Господин Аарон Маркус предположил, что это «особые в своем роде физические проявления комплексов, связанных с возмужанием». Но Фрид возразил:
— Нет, нет, это уже начинает расползаться. Да, так мне кажется…
Но, к великому своему удивлению, сам понял через минуту, что мальчишка попросту окукливается, как огромная гусеница, создает вокруг себя самый настоящий кокон. Что он отдан в безраздельную власть собственных желез внутренней секреции, ответственных за его возмужание. Невидимые, наглухо изолированные и в то же время во всем участвующие, они деспотически, бесстыже и беззастенчиво осуществляют свои функции.
Фрид догадался, что через самое непродолжительное время Казик высвободится из своих пелен и предстанет перед ним абсолютно взрослым. Врач сожалел об этом, Поскольку всегда рассматривал детство как лучший и важнейший период в жизни человека, период нестандартности восприятия, тонкой интуиции и вдохновения — во всяком случае, таково было его детство, а возмужание представлялось ему приведением в исполнение приговора, превращающего всех людей в нечто до обидного одинаковое и безликое. Даже внешние физические признаки: погрубевшая кожа, отталкивающая волосатость, утрата юношеской гибкости, не говоря уже о безжалостной тирании полового инстинкта, представлялись ему решетками тюрьмы, в которую взрослый заключает себя, ребенка. Но, глядя на задремавшего в коконе подростка, Фрид ощутил удар внезапного волнения, поскольку впервые с начала вечера, а может, вообще с начала всей своей жизни испытал благоговейный восторг перед могучим течением жизни, несмотря ни на что, непреклонно и повсеместно осуществляющей свою волю, даже в этой комнате, так близко от Фрида, и, как видно, впервые он ощутил свою собственную погруженность во время, состояние, которое, по словам Вассермана, «только и заслуживает названия присутствия в потоке дедушки времени», ту человеческую причастность к непрерывно разматывающейся последовательности, «где тебе указывают твое место между предками — родителями — и потомками, вышедшими из твоих чресл». Фрид с удивлением осознал, что ошибался, полагая, будто отец дарит жизнь сыну, — нет, такое представление в корне ошибочно: отец не меньше нуждается в сыне, чем сын в отце, потому что только ребенок способен вызволить его, взрослого человека, из темницы и вернуть ему те первоначальные сокровища души, о которых он позабыл.
Фрид: А, это все красивые слова, верно, но самое важное заключалось в том, что в эти минуты мой Казик пребывал вне времени. Наверно, целых четверть часа он вообще не рос, и это были единственные минуты с тех пор, как он появился, когда я мог хоть немного посидеть спокойно и привести в порядок свои мысли, подумать о том, что происходит и что еще произойдет, но тут он очнулся, пробудился — да, так быстро пробудился…
Казик очнулся. Медлительными тяжелыми движениями разорвал путы своего странного кокона, который тут же истлел и растаял. Особое забытье, сопровождавшее его возмужание, заняло тринадцать минут, и теперь он снова находился в потоке времени. Он выглядел смущенным и слегка раздраженным. Нужно отметить, что, несмотря на произошедшее в нем половое и физическое созревание, голова его по-прежнему не возвышалась даже над сиденьем стула. Это были последние мгновения в его жизни, когда он еще оставался милым сосунком: мокрая пеленка обвивала нижнюю часть его тельца, маленький животик торчал вперед, а попка — назад. Но лицо сделалось строгим, омраченным тревогой и смятением, и где-то в глубине его существа уже бушевали необузданные и непонятные ему самому страсти.
Казик: Я… Кто-я? Кто-я?
(См. статьи выбор и Гинцбург).
— Зайдман, Малкиэль, биограф, один из тех мастеров искусств (см. статью деятели искусств), которых Отто начиная с декабря 1939 года отыскивал в Варшавском гетто и собирал у себя в зоосаде (см. статью сердце, возрождение «Сынов сердца»).
Ученый, добившийся определенной известности благодаря двум первым томам подробной биографии Александра Македонского, которые ему удалось завершить до постигшего его катаклизма. Пожилой человек, неторопливый и деликатный, постукивающий по дорожкам зоосада старыми, но крепкими еще башмаками, которые Отто раздобыл для него, и повсюду таскающий за собой заслуженный, сильно потрепанный кожаный саквояж, испускающий острый запах гнилых фруктов. В саквояже Зайдман хранит свою последнюю научную работу «Основные исторические процессы и события, приведшие к самоубийству часовщика Лейзера Мелинского с Кармелицкой улицы». Труд, над которым, по словам Вассермана, Зайдман «убивался на протяжении целых девяти лет и который хотя и приумножил его славу исследователя, но сделался его проклятием». Вассерман рассказывает об одном досадном столкновении Фрида и Паулы с Зайдманом: в одну из ночей, вернее, в три часа утра биограф постучался в дверь павильона, в котором проживала супружеская пара, и пожелал — со всей присущей ему деликатностью, но и с младенческой настойчивостью — немедленно выразить свой протест против претензий и обвинений в адрес Отто, высказанных доктором нынешним утром, когда оба они стояли под навесом перед клетками попугаев. Малкиэль Зайдман работал поблизости и отлично слышал, как доктор кричал, что так невозможно продолжать содержать зоосад, поскольку Отто, вместо того чтобы заниматься делом, проводит все время в еврейском гетто и притаскивает оттуда в качестве работников отбросы общества: всяких бродяг и психов, необразованных и неразвитых дикарей, бездельников, которые не желают пальцем шевельнуть, чтобы помочь Фриду в его трудах.
Фрид: Ну да, как это нередко бывает у сумасшедших, полностью отключены от действительности, сосредоточены только на самих себе, все как один страшные эгоисты и эгоцентрики и вообще почти не замечают не только нас, но и друг друга. Каждый носится с какой-то безумной идеей, раз и навсегда застрявшей у него в башке. Отто называет это искусством и утверждает, что они творцы и художники! Разумеется, они никоим образом не оправдывают той жратвы, которую Отто предоставляет им здесь задаром. Согласен, нельзя сказать, чтобы они так уж много ели, — в сущности, они и не едят ничего. Цитрин, например, потребляет только овощи и фрукты, потому что видеть не может мяса, Маркус, тот вообще никогда не помнит, что человеку все-таки следует чем-то питаться, а этот несчастный, Гинцбург, он и прежде был дистрофиком, а теперь и подавно почти ничего не берет в рот, ведь после посещения гестапо у него не осталось ни одного зуба! Только Мунин, этот мерзкий, одержимый похотью дикарь, готов сожрать все! Ест за пятерых. Потому что ему требуется много сил — так он объясняет, этот извращенец. А сам Зайдман — ладно, этот кормится вместе с животными, с которыми в тот день работает, лопает из их кормушек. Вместе с птичками клюет зернышки. Такие дела. Нет, объесть они, может, и не слишком нас объели, но уж толку от них наверняка никакого, да и вообще все их поведение… Мой Боже!.. Сами как животные. Без преувеличения. Животные даже лучше их.