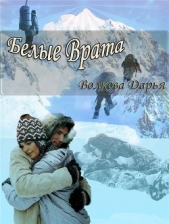Музей заброшенных секретов
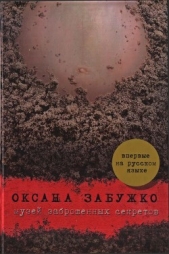
Музей заброшенных секретов читать книгу онлайн
Оксана Забужко, поэт и прозаик — один из самых популярных современных украинских авторов. Ее известность давно вышла за границы Украины.
Роман «Музей заброшенных секретов» — украинский эпос, охватывающий целое столетие. Страна, расколотая между Польшей и Советским Союзом, пережившая голодомор, сталинские репрессии, войну, обрела наконец независимость. Но стала ли она действительно свободной? Иной взгляд на общую историю, способный шокировать, но необходимый, чтобы понять современную Украину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Потрясающе! — победно провозглашает (или — ликует? торжествует?) брюнетка (сейчас ей и в самом деле не помешала бы пауза, чтобы переварить услышанное, но так как пауза недавно была, хоть и не по ее воле, то она исправно овладевает собой и заходит на новый круг). — А для тебя самой, в твоем собственном творчестве, насколько это важно — то, что ты женщина? Ты проводишь различие между мужской и женской живописью, чувствуешь себя наследницей какой-то особой, женской художественной традиции? Можешь назвать женщин-художниц, которых считаешь своими предшественницами?
— Хороший вопрос, Дарина, спасибо… Мне кажется, в «Секретах» я наконец нашла свою настоящую манеру, и это касается не только техники, всей этой адской смеси — коллажа, живописного фона, подрисованных фотографий, навесных козырьков для создания объема… Хотя это, собственно, тоже очень женский подход к материалу — знаешь, как у хозяйки, которая валит в борщ всё, что потихоньку портится в холодильнике, — художница задумывается, подыскивая слова, — и в это мгновение —
внезапный порыв ветра
взметает ей волосы за спину, высвобождая ее бледное личико из буйного золотистого обрамления — нагим и беззащитным, и она становится похожа на не по годам серьезного, сосредоточенного сероглазого мальчика, монастырского отрока-служку, которому скоро принимать постриг, отчего на лицо и всю его стать ложится холодный, нездешний свет отчуждения, — момент странный и немного жутковатый, все замолкают, будто кто-то невидимый вошел в кадр, интервьюершу передергивает короткой, зябкой дрожью, но это, наверное, и от сквозняка — может, где-то в глубине помещения открылись и закрылись двери, а может, просто первое дыхание близкой осени — как-никак, август уже на исходе…
— Извини, — художница растерянно смотрит на подругу, беспомощно пытаясь улыбнуться, — мысль потеряла… Ага (ее голос постепенно возвращается к привычному самовластному тембру, бесперебойно-живому журчанию, лишь изредка запинающемуся на перекатах мысли посложнее), не только в технике дело, есть и еще кое-что. Я ведь работаю с предметами — или, скорее, с тем, что от них осталось, — уже побывавшими в домашнем обиходе. Все эти как бы кусочки керамической мозаики, которые ты видишь на холсте, — это осколки настоящих сервизов и статуэток. И точно так же автомобильные светозащитные козырьки, и лоскутки ткани — мешковины, трикотажа: я редко беру новые — у подержанных вещей особая фактура, они теплые… То есть, если говорить о моем ощущении женской преемственности, — я, в принципе, делаю нечто зеркально-противоположное тому, чем женщины занимались на протяжении всей истории, украшая быт. Традиционно женской сферой была ведь не станковая, а все-таки прикладная живопись, особенно у нас на Украине, где вся декоративная роспись испокон веков создавалась женскими руками, и все наши знаменитые примитивистки — Примаченко, Собачко — оттуда, от расписных печей и посудных горок… Да что о тех говорить — даже Экстер в середине двадцатых разрабатывала узоры для ковровых артелей на Николаевщине, пока их всех не разогнали («Правда? — подпевает из-за кадра журналистка. — Я не знала…»). Ну вот. А я, наоборот, работаю с разрушенным бытом, вроде как с разрушенным домом, что ли, — пытаюсь сконструировать из него новую целостность, уже чисто художественную…
— И тебе это удается, — говорит интервьюерша, невольно включив «почтительную подобострастность», которая в момент возводит непробиваемую стеклянную витрину между объектом и поклонником (художница поеживается).
«Содержимое женской сумочки, найденной на месте авиакатастрофы» — это, по-моему, абсолютно гениальная работа (художница бормочет нечто маловразумительное), нет, без шуток, действительно классика постмодерна! Кто ее купил?
— Лозаннский Эрмитаж…
— Хорошо лозаннскому Эрмитажу — взял и купил Владиславу Матусевич! — с нажимом, чтобы уж никто не пропустил мимо ушей, восклицает на камеру интервьюерша (с соседнего столика вспархивает несколько вспугнутых ее патетическим возгласом воробьев). — А у нас, бедных, даже своего музея современного искусства в стране нет!.. А работа роскошная, ей-богу роскошная (она мурлыкающе-плотоядно замедляет речь, будто снова смакуя в воображении эту работу во всех подробностях), — теперь только слайдом будем любоваться (опускает голову, зачитывая заранее заготовленный закадровый текст): «Тут воочию представлена готовая драма, сложенная из всех тех отрывочных свидетельств, на которые обычно не обращаешь внимания. По-своему это очень кинематографичная, монтажная работа, где каждая деталь красноречива, ее можно просматривать часами, кадр за кадром, — разбитые очки, квитанции, таможенные декларации, фото мужа и ребенка в записной книжке, пудреница с треснувшим зеркальцем, и эти ужасные кровавые мазки поверху…»
— Да это помада, Дарина! — смеясь, перебивает художница, с явным облегчением от того, что разговор перескочил с комплиментарных рельсов на производственные. — На зеркале — самая настоящая губная помада, ревлоновская, я ее только закрепила лаком!
— Правда?.. Кстати, наконец представился случай спросить у тебя, давно хотела — скажи, тебе не страшно было это делать? Не страшно было выкладывать такой, в буквальном смысле, натюр-морт, мертвую натуру?
Художница пожимает плечами.
— Мне было интересно, — выждав минуту, будто высматривая надежный пятачок опоры на мелководье, находит она наконец подходящее определение. — Еще с девяносто восьмого года, когда, помнишь, под Галифаксом недалеко от Канады упал «Swiss Air»-овский боинг и водолазы неделю вещи из воды вылавливали, чтобы идентифицировать погибших, меня эта мысль не отпускала — вот остается после тебя сумочка, и что она расскажет о тебе чужим людям? А потом однажды у меня самой в сумке случайно помада размазалась по зеркальцу, и тогда я увидела, как это может выглядеть на холсте. Но чтобы страшно… Это уж ты мне скажи, ты же весь цикл у меня в мастерской видела, еще перед Швейцарией, — скажи, смотреть на это — не страшно?
— О том-то и речь, что самое удивительное, — это очень светлая работа! Легкая какая-то по энергетике, как и вообще все твои «Секреты», — и это при том хаосе, который на них изображен! Ты будто приручила, одомашнила смерть, — интервьюерша осекается, немного смутившись тем, куда занес ее поток собственных слов, и тотчас начинает оправдываться: — То есть не в том смысле, как это делают в голливудских страшилках, у тебя вообще никакими страшилками и не пахнет, а, как бы это сказать? Есть композиционная грация, есть тепло, такая необыкновенно живая, прогретая, я бы сказала — южно-украинская насыщенность колорита, и эти нежные орнаментальные вставочки то там, то сям, такие милые и такие домашние — и за всем этим как-то забываешь, что речь ведь о смерти, о гибели… Такое «Содержимое женской сумочки», его не то что в музее — дома можно повесить!
— Ты бы повесила? — Художница внезапно чутко подается вперед, снизу вверх, как кошка, которая собирается запрыгнуть на дерево, с расширенными выжидательным блеском глазами и полуоткрытым ртом, словно готовым подхватывать и глотать каждое услышанное слово. — Честно, повесила бы?
— Ого, еще как — за милую душу! Только, извини, Влада, на какие шишы? Видит око, да зуб неймет. (Брюнетка хихикает уже по-другому — возбужденным, наэлектризованным смешком женщины, оказавшейся в магазине драгоценностей и опьяненной самой возможностью рассматривать и примерять.) Я столько не зарабатываю, чтобы Владиславу Матусевич себе позволить!..
В ее голосе явно звучит нотка гордости — такой узнаваемой для первого поколения имущих в стране, где вслух назвать предмет роскоши, который не можешь себе позволить (шестой «бимер», колье от Тиффани, картину Матусевич…), означает в то же время словно широким жестом очертить немереное число вещей менее эксклюзивных, которые позволить себе, в отличие от большинства своих соотечественников, все-таки можешь, — и вместе с тем наивной, неофитской гордости мирового провинциала, который может произнести «Владислава Матусевич» с той же интонацией, с какой буржуа-искусстволюбы в столицах мира произносят «Пикассо» или «Матисс», — гордости подростка, почувствовавшего себя на равных со взрослыми. Однако художница не клюет на эту интонацию — она сейчас явно находится в каком-то ином «магазине».