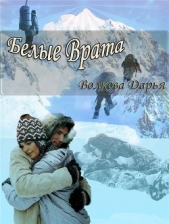Баталист

Баталист читать книгу онлайн
…Он не собирался оправдывать жестокую правдивость своих снимков, подобно другим фотографам – тем, кто утверждает, будто рвется в горячие точки, потому что ненавидит войну и желает покончить с ней навсегда. Он не собирался коллекционировать различные проявления бытия и не пытался их истолковать. Он хотел лишь одного – постичь законы и формулы, подобрать ключ к шифру, который сделает терпимой любую боль. С самого начала он искал нечто особенное – точку отсчета, фокус, который поможет просчитать или уловить интуитивно путаницу изогнутых и прямых линий, головоломку, беспорядочное движение шахматных фигур, сквозь которое проступает механизм жизни и смерти, хаоса и его проявлений; его интересовала война как структура, как голый бесстыдный скелет гигантского космического абсурда…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ольвидо обладала не только незаурядной красотой. Фолька с самого начала завораживала ее манера разговаривать, чуть склоняя голову после каждой фразы, привычка слушать собеседника – иронично, словно полностью не веря тому, что он говорит, ее тон хорошо воспитанной и в то же время немного капризной девочки, ее едва уловимая жесткость: она была слишком молода и красива, чтобы чувствовать настоящее сострадание, – жестокость, смягченная неотразимым юмором и изящным озорством. Кроме того, отметил Фольк, эта женщина, как бы ни старалась, не могла укрыться от внимания мужчин: ее пропускали вперед, открывали перед ней дверцу автомобиля, официанты мчались со всех ног, достаточно ей было лишь посмотреть в их сторону, метрдотели в ресторанах предлагали лучший столик, а администраторы в отелях – номера с самым живописным видом из окна. На эти знаки внимания Ольвидо отвечала своей неповторимой улыбкой, ироничной и в то же время теплой, живым и острым юмором своих замечаний. Она обладала удивительной способностью без малейших усилий говорить на языке собеседника. Даже ее чаевые в ресторанах и отелях напоминали продолжение веселой болтовни. А когда она смеялась – а смеялась она громко и беззаботно, как озорной подросток, – любой мужчина пошел бы на преступление за одну лишь ее улыбку. В обаянии трудно было ее превзойти. Воспитанным людям, – говорила она, – несложно завоевывать симпатию: достаточно говорить о том, что интересно другому. Она умела быть остроумной, умела выразительно молчать на пяти языках, она поражала своим пугающим умением перенимать чужую интонацию и голос, а также сверхъестественной памятью, не упускавшей ни единой мелочи. Фольк не раз слышал, как она называет по имени консьержей, моряков и таксистов. Она запоминала все крепкие жаргонные словечки, все обороты речи и, когда выходила из себя, произносила бранные слова с неповторимым изяществом – в этом, вероятно, сказывались ее итальянские корни. Она с легкостью побеждала скверные черты людей, стоящих на более низкой социальной ступени: скрытую зависть лакеев, спрятанную под напускным подобострастием, когда те обслуживают клиентов, стиснув зубы, лелея мечту о жестокой кровавой революции, или подчеркнуто смиренное достоинство официантов. Женщины ею по-сестрински восхищались, мужчины принимали ее безоговорочно с первого взгляда, поскольку ей было несложно поставить себя на их место. Если бы Ольвидо жила в начале века и была мужчиной, представлял Фольк, она бы завтракала по утрам в кондитерской, не избегая общества слуг, работающих в доме, где накануне вечером ей довелось побывать на званом ужине или балу.
Тогда в Мехико, в их первый вечер Фольк тоже пал жертвой ее обаяния. Позабыв о своем опыте, профессиональных достижениях, непростой биографии и взглядах на жизнь он сам не заметил, как оказался за столиком в кафе у Сан-Анхель – на нем была темно-синяя куртка и джинсы, на ней – платье цвета мальвы, строгое и узкое, словно нарисованное на ее бедрах и длинных ногах, а метрдотель сказал: «Добрый вечер, сеньорита Феррара, как давно вас не было видно, как поживает ваш папа», – глядя в глаза виноградного цвета, похожие на глаза той самой Науи Олин, чью историю она только что ему рассказала. Фольк смотрел на нее пристально, и она немного склонила голову, исподволь разглядывая его сквозь золотистую челку, спадавшую на лицо, на миг стала серьезной, и проговорила: у нас мало времени, Фольк, – не уточняя, что имеет в виду, этот вечер или остаток жизни. Тогда она назвала его так впервые. С тех пор она обращалась к нему по фамилии всегда – до самого конца. Три года. Может, чуть меньше. Тысяча пятьдесят дней, что прямо пропорционально силе притяжения двух тел – так она выразилась, перифразируя Ньютона, в том афинском отеле, когда они обнимались, стоя под душем, – и обратно пропорционально расстоянию, которое их разделяет. Три напряженных, полных событий года, начавшиеся в тот вечер, когда они вдруг оказались одни-одинешеньки в кафе на площади Гарибальди, где просидели до самого закрытия, болтая о живописи и фотографии, а официанты переворачивали стулья, ставя их на столы, и уже начинали мыть пол; и когда Фольк покосился на часы, она удивилась, как это военный фоторепортер не может спокойно сидеть под шквалом взглядов, которым их осыпают нетерпеливые официанты. Только она одна умела так использовать чужие мысли, чтобы выразить собственные, она ловко преодолевала неожиданное затруднение, повернув разговор под каким-нибудь необычным углом, так, чтобы удобнее лукавить, убеждая всех, будто говоришь без всякой задней мысли. Она обожала подделки, тщательно их собирала, а потом оставляла в мусорной корзине в отеле, аэропорту, раздавала горничным, официанткам и стюардессам: поддельный муранский хрусталь, поддельное брюссельское кружево, безделушки из бронзы под старину, поддельные миниатюры XVIII века, купленные на уличных рынках; Среди таких вещей она чувствовала себя как рыба в воде, одно ее беглое замечание или взгляд делали их бесценными. Ольвидо была чрезвычайно внимательна к вещам и людям, с которыми имела дело. Отчасти секрет ее был в том, что она чувствовала себя в полной безопасности, поскольку принадлежала к породе женщин, для которых мир – возбуждающее поле боя, а мужчины – важное, но не обязательное приложение.
В определенном смысле она была права. Три года – действительно мало, хотя в тот вечер никто из них двоих не мог этого предвидеть. После их встречи в Мехико Фальк, придававший большое значение парадоксам и совпадениям, отметил, что ее имя – Ольвидо [3]; и внезапно его осенило – подобное бывает с удачными снимками, сделанными случайно, без подготовки, – что эту женщину он не сможет забыть никогда.
В открытые окна башни доносился шум волн, бившихся о скалы. Фольк по-прежнему разглядывал вулкан, изображенный на фреске. В этот миг – было ли то действием выпитого коньяка или же игрой ночной тьмы и света фонаря – перед его глазами неожиданно мелькнула тень. Вздрогнув, он покосился на ту часть панорамы, куда, как ему померещилось, она скользнула. Он помотал головой.
– Как темен дом, где ты теперь живешь, – произнес он машинально.
6
Утренняя вода освежала. Проплыв привычные полторы сотни метров в открытое море и еще столько же обратно, он вернулся в башню и долгое время напряженно работал, затем сделал перерыв в четверть часа, сварил кофе и поспешно выпил его, стоя напротив фрески, после чего занялся конными рыцарями возле левого дверного косяка, которые ждали свой черед, чтобы броситься в битву, кипевшую у подножья вулкана. Кони готовы не были – у Фолька возникли технические затруднения, но три всадника, один впереди, двое других позади, казались почти завершенными; их доспехи блестели, написанные холодными цветами – серо-голубым и сиреневым, холодные зловещие блики на оружии были прорисованы тонкими мазками прусской лазурью по белому с добавлением красного и желтого. Дольше всего Фольк работал над выражением глаз одного из всадников на первом плане: он был единственным, чье забрало было поднято и часть лица открыта – у других забрала были опущены. Отсутствующий, пустой взгляд, устремленный в неопределенную точку, где происходило что-то невидимое, однако угадываемое зрителем. Такие глаза, открытые и одновременно незрячие – глаза человека, готового ринуться в битву, Фольк не раз встречал в разных горячих точках планеты; однако техническим исполнением он был обязан мастерству классика. Этим классиком был Паоло Уччелло, автор триптиха «Сражение при Сан-Романо», висевшего в Уффици, в Национальной галерее и Лувре, который вдохновлял его из далекого XV столетия прежде всех других мастеров. Выбор был не случаен. Подобно Пьетро делла Франческе, живописец Уччелло был лучшим математиком своего времени, чей ум и познания в инженерном деле помогали решать задачи, которые до сих пор поражают знатоков. Дух флорентийца витал над гигантской фреской еще и потому, что впервые мысль отказаться от фотокамеры и написать величайшую в мире батальную панораму пришла Фольку в голову в Уффици в тот день, когда они с Ольвидо Феррара неподвижно стояли в зале, чудесным образом опустевшем на целых пять минут, созерцая удивительную композицию, перспективу, необычный ракурс этой картины, нарисованной на деревянной доске, одной из трех частей триптиха, изображающего битву 1 июля 1432 года в Сан-Романо, долине возле Арно, где столкнулись две армии – флорентийцев и сиенцев. Ольвидо обратила внимание Фолька на вертикальную прямую, которая протянулась к сраженному копьем коню, затем на другие сломанные копья, валявшиеся на земле около трупов павших коней; они перекрещивались, образуя узор, некое подобие уходящего в перспективу живописного орнамента, продолжением которого была человеческая толпа, двигавшаяся со стороны темневшего на горизонте леса. Ольвидо с детства отличалась редкостной проницательностью; она умела читать картину так, как другие читают карту, книгу или чужие мысли. Это похоже на одну из твоих фотографий, сказала она неожиданно. Трагедия, выраженная почти абстрактными геометрическими формами. Обрати внимание на арки арбалетов, Фольк На узор из копий, которые словно вылезают за пределы картины, на округлые железные доспехи, от которых картина кажется объемной, на грозные очертания шлемов и кирас. Не случайно самые передовые художники XX века признают именно Уччелло, не правда ли? Художник и сам не мог предположить, насколько он опередил свое время, насколько современным покажется несколько веков спустя. Также и твои фотографии. Проблема в том, что в распоряжении Паоло Уччелло были кисти и перспектива, а у тебя есть только камера, предполагающая определенные границы. Фотографией так злоупотребляют, так часто ее используют, что снимок обесценился и стоит куда меньше, чем тысяча слов. Но это не твоя вина. Дело не в том, что ты неправильно изображаешь увиденное, а в инструменте, которым пользуешься. Слишком уж много вокруг фотографий, тебе не кажется? Мир сыт ими по горло. Услышав ее слова, Фольк обернулся: она стояла вполоборота, загораживая лучи света, проникавшие в зал сквозь окно справа. Может быть, однажды я напишу картину, хотел он сказать, но промолчал. И Ольвидо умерла, так и не узнав, что он действительно собирался написать картину, и именно она подтолкнула его к созданию панорамы. В тот миг она пристально смотрела на Уччелло: длинная шея, волосы, собранные на затылке. Она казалось точеной статуей, рассеянно взирающей на людей, которые убивают друг друга и гибнут сами, на собаку, оказавшуюся в момент погони над головой коня в центре композиции. А ты? – спросил тогда он. Скажи, как ты решаешь эту проблему? Ольвидо все еще стояла неподвижно, не отвечая, затем отвела взгляд от картины и искоса взглянула на Фолька. А у меня никаких проблем нет, произнесла наконец она. У меня все в порядке, нет ни ответственности, ни угрызений совести. Я перестала позировать модельерам, сниматься для обложек или рекламы, я давно не фотографирую роскошные интерьеры, предназначенные для журналов, которые читают шикарные красотки, жены миллионеров. Я всего лишь туристка, путешествующая по местам ужасов и бедствий, и я этим вполне удовлетворена, а камера мне помогает чувствовать себя живой, как в те времена, когда ремесло было искусством. Я бы хотела написать роман или поставить фильм о последователях казненных тамплиеров, о влюбленном самурае или русском графе, который пил, как казак, и резался в карты, как мафиози в Монте-Карло, а потом стал портье в «Le Grand Vefour». Но мне не хватает таланта. Так что я просто смотрю вокруг себя и фотографирую потихоньку. А ты – мой пропуск в этот мир. Рука, которая ведет меня сквозь пейзажи, такие, например, как на этой картине. Я не собираюсь вырабатывать индивидуальный стиль, – тот, которого, как говорят, каждый ищет в нашем ремесле, – даже ты, хотя ты в этом никогда не признаешься. Ты все равно знаешь, что механизм всегда сработает – щелк, щелк, щелк, – даже если в камере нет пленки. И очень хорошо, что знаешь. У тебя все по-другому, Фольк. Твои глаза, уставшие бороться, требуют, чтобы Бог выдал тебе список собственных законов. Или орудий. Твои глаза хотят проникнуть в рай – только не в тот рай, который был в начале творения, а в другой, за краем пропасти. Хотя проникнуть туда ни тебе, ни твоим жалким фотографиям никогда не удастся.