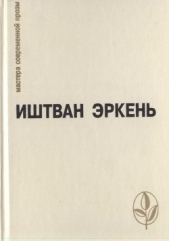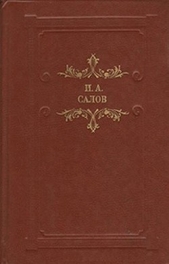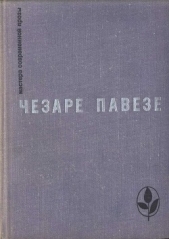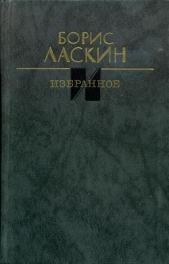Избранное
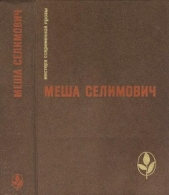
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А тот находился в саду, в заброшенном доме, в кустах, я все время смотрел туда, ничто не происходило, я ничего не слышал, мне было обидно, почему он не ушел, тогда все решилось бы само собой, а теперь он не сможет убежать, останется здесь на целый день, и целый день я буду думать о нем и ждать спасительной ночи, спасительной для него или для меня.
Я знал, как пробуждалась текия. Первым вставал Мустафа, если ночевал не дома, стучал тяжелыми башмаками по каменному полу в нижнем этаже, хлопал дверьми, выходил в сад и совершал омовение, громко сморкаясь, прочищая горло, растирая широкую грудь, наскоро преклонял колени, потом разводил огонь, снимал и ставил посуду, все с таким шумом, что проснулся бы любой, даже не привыкший рано вставать. Он был глух, и его пустынный мир, лишенный звуков и эха, всегда жаждал шума, и, когда нам иногда удавалось объяснить ему, что он слишком стучит, грохочет, колотит, звенит, он удивлялся: неужели даже это кому-то мешает.
Почти одновременно раздавалось покашливание хафиза Мухаммеда, иногда он кашлял ночи напролет, весной и осенью кашель его становился тяжелым и свистящим, мы знали, что он харкает кровью и сам убирает ее следы, а выходил всегда улыбаясь, с красными пятнами на щеках, говорил нам о самых будничных вещах, не о себе и своей болезни, и мне всегда казалось, что это от особенного рода высокомерия, от стремления быть выше нас и мира. С особым тщанием он совершал омовение, долго растирая свою прозрачную кожу. В это утро он кашлял меньше, легче, случалось, что его успокаивало мягкое дыхание весны, которое иной раз и усиливало его мучения, я знал, что нынче он будет мягок, умиротворен, далек от всего: такова его месть миру — никогда не показывать своей тоски.
Потом спускался молла Юсуф. Перестук его деревянных сандалий звучал неторопливо и сдержанно, слишком размеренно для такого цветущего здоровяка, он следил за своим поведением с большим тщанием, чем любой из нас, ибо ему было что скрывать. Я не верил в его смирение, оно казалось напускным, выглядело неестественным, не соответствовало его румянцу, его свежим двадцати пяти годам. Но это уже не мысль, а сомнение, чувство, которое менялось в зависимости от настроения.
Мы не много знали друг о друге, хотя жили вместе, потому что никогда не говорили о себе, и никогда откровенно, но всегда о том, что было у нас общего. И это было хорошо. Личные дела слишком тонки, смутны, бесполезны, и следовало оставить их для себя, коль скоро мы не могли от них избавиться. Разговор между нами сводился в основном к общим, известным фразам, которыми пользовались до нас другие, потому что они надежны, проверены, оберегают от неожиданностей и недоразумений. Личность — это поэзия, допустимы толкования, произвольность. А выйти за круг общей мысли — значит усомниться в ней. Поэтому мы знали друг друга лишь по тому, что было неважно или одинаково в нас. Иными словами, мы не знали друг друга, и в этом не было нужды. Знать — означало знать то, что не следует.
Однако эти рассуждения не приносили спокойствия, с их помощью я пытался лишь утвердиться в чем-то, чтоб буря не вырвала меня и не унесла; я шел по краю пропасти и стремился вернуться на твердую почву. В это утро я им всем завидовал, для них оно было обычным.
Существует безошибочный и простой способ уменьшить свою муку, даже вовсе избежать ее: сделать ее всеобщей. Беглец теперь имел отношение ко всей текии, и решение надлежало принимать не мне одному. Имею ли я право скрывать то, что принадлежит также им? Я могу высказать свое мнение, даже могу защитить беглеца, но скрывать его я не должен. Ведь именно такого решения я старался избежать. Надо сделать так, чтобы оно стало нашим, не моим,— так легче и честнее. Все остальное будет бесчестно и лживо, и я знал бы, что делаю нечто недозволенное, не имея на то никаких причин. Не испытывая даже уверенности в том, что мне следует так поступить.
Но с кем поговорить? Если мы соберемся все вместе, беглеца можно заранее считать принесенным в жертву. Мы будем бояться друг друга, станем говорить от имени тех, кто отсутствует, и тогда самое приемлемое — самое суровое. С одним говорить и легче и честнее, не пугает количество: чем меньше ушей, тем больше внимания к доводам разума. Но кого выбрать? Глухой Мустафа наверняка не в счет, мы равны перед богом, но любой посмеется надо мной, если я стану договариваться с ним, и не только потому, что он глух. Он настолько поглощен мыслями о своей невенчанной жене, от которой частенько убегает, ночуя из ночи в ночь в текии, и о пяти ребятишках, законных и тех, что со стороны, пожалуй, он и сам удивился бы, почему я спрашиваю о том, чего он не знает, а он многого не знает, и в этом отношении не далеко ушел от своих многочисленных детей.
Хафиз Мухаммед выслушал бы меня рассеянно, с ничего не говорящей улыбкой. Он жил, склонившись над пожелтевшими скрижалями истории. Для этого странного человека — я тогда еще завидовал ему в этом — существовало лишь минувшее, а наше время воспринималось им после того, как уходило. Редко встретишь человека, столь далеко отошедшего от жизни, как он. Долгие годы странствовал он по Востоку, копался в знаменитых библиотеках в поисках исторических сочинений и возвратился на родину с огромной кипой книг, нищий и богатый, переполненный никому, кроме него, не нужными знаниями. Знания текли из него рекой, заливали потоком, он обрушивал на тебя имена, события, становилось не по себе при мысли о толпе, которая поместилась в этом человеке и жила в нем, словно она существовала сейчас, словно бы это не были призраки и тени, но живые люди, которые непрестанно трудятся в ужасающей вечности бытия. В Стамбуле какой-то офицер в течение целых трех лет обучал его астрономии, благодаря этим знаниям хафиз Мухаммед все явления измерял теперь огромными пространствами неба и времени. Я считал, что он пишет историю наших дней, но потом усомнился, потому что люди и события приобретали для него величину и значение лишь после своей кончины. Он мог создавать лишь философию истории, безнадежную философию вне человеческих масштабов, равнодушный к повседневной, текущей жизни. Если б я спросил его о беглеце, ему наверняка стало бы не по себе, оттого что я потревожил его столь неприятными делами в это чудесное утро, которое началось у него без удушья, и заставляю думать о таких мелочах, как судьба человека, укрывшегося в нашем саду. Он ответил бы столь неопределенно, что мне снова пришлось бы решать самому.
Я решил поговорить с моллой Юсуфом.
Он только что закончил омовение и, поздоровавшись со мной, хотел молча уйти. Я остановил его, сказав, что хочу поговорить.
Молла Юсуф мельком взглянул на меня и сразу опустил голову, он всегда был настороже, однако сейчас мне не хотелось томить его мучительным ожиданием, и я рассказал ему все о беглеце: что я услышал и увидел из своей комнаты, как он вошел в сад и спрятался в кустах. Наверняка он и сейчас где-то здесь, наверняка он спасается от погони, иначе бы не стал прятаться. Я сказал — это было правдой,— что я до сих пор нахожусь в недоумении, как поступить: сообщить ли о нем властям или предоставить все воле случая? Может быть, он виноват, невиновные люди не болтаются по ночам, но в то же время я ничего не знаю и мог бы совершить по отношению к нему несправедливость, боже упаси меня от нее. И теперь важно рассудить, в чем зло: вмешаться нам или не вмешаться? Что хуже: умолчать о преступлении, если оно совершено, или не проявить милосердия?
Он напряженно смотрел на меня, пытаясь скрыть, что он внимательно и с интересом слушает мой сбивчивый рассказ, на его румяном, без единой морщинки лице, посвежевшем от воды и утреннего воздуха, появилась живость и озабоченность.
— Он еще в саду? — тихо спросил он.
— До рассвета не выходил, а днем нельзя.
— Как ты думаешь, что нам делать?
— Не знаю. Я боюсь греха. Люди упрекнут нас, если он виноват, и для текии это нехорошо. А если он не виноват, грех падет на нашу душу. Один господь знает вину всех. Людям сие неведомо.