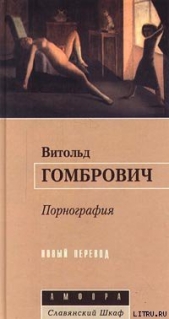Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пятница
Процитирую Виттлина:
Писатель-эмигрант живет в зауженном сообществе, в котором нелегко творить, а тем более выдавать бунтарские произведения. Такое ограниченное сообщество чаще всего прислушивается к тому, что уже давно знает… А потому писателю-эмигранту может навязать эмиграции свой вкус и свое новаторство.
Торе ему, если он прогнется. Потому что если в нормальном сообществе каждому художнику угрожает самый большой его враг — желание нравиться — то опасность со стороны этого врага стократ больше в сообществе узком, сбитом в своеобразное гетто…
Вот так! А значит, нечего слишком хотеть нравиться, это было бы нездорово в сообществе «узком, сбитом в своеобразное гетто». Здесь скорее рекомендуется жесткость откровенности, хоть она и не по вкусу тем, кто вот уже два десятка лет сидит, развалясь, на своих синекурах, паразитируя на факте, что «такое ограниченное сообщество чаще всего прислушивается к тому, что уже давно знает».
Линия раздела! Линия между движением и имитацией движения!
Суббота
Как жаль, что у нас нет Сандауэра! Как бы он пригодился со своим штемпелем «Без льготного тарифа» [182]. Польша, однако, решилась издать Сандауэра — одно это указывает на то, как далеко оставили они позади бездвижную поверхностность эмиграции.
Как это? Они, обогнали? Они, стреноженные, обогнали вас, находящихся на полных оборотах свободы? Невозможно! Возмутительно! И тем не менее! Видать, тюрьма не худшее место для духа, который только набирает силу в заточении. В то время как слишком легко раствориться в безграничной свободе — как кусок сахара, упавший за борт в океан.
В каком-то смысле и сама Польша, и эмиграция больны одной и той же болезнью. Если эмиграция страдает искусственностью в результате своей оторванности от народа, то искусственность, причем в диком объеме, была навязана и им, в Польше, теорией сколь агрессивной, столь же и завиральной. В эмиграции существуешь в безвоздушном пространстве, без соприкосновения с жизнью, которая и проверяет, и обновляет. В Польше все заражено фикцией, но только потому, что страну вырвали из мира, из свободной игры ценностей, в Польше устроили закрытую систему, функционирующую по особым законам. В таких условиях нетрудно найти критерий в искусстве: все, что там, у них, или здесь, у нас, жаждет реальности, жизни, истины, не какой-то там относительной или местной, а универсальной и абсолютной, все это ценно, и даже бесценно; а то, что по сути своей конъюнктурно и что сидит на лжи, как на троне, — жалко и мелко, шустро и посредственно.
Передо мной на столе книга Сандауэра «Без льготного тарифа», содержащая его генеральное наступление на современное творчество в Польше. Я сказал «генеральное» несмотря на то, что кровавый Сандауэр ограничивается съедением Адольфа Рудницкого, Ежи Анджеевского, Яна Котта и еще нескольких. Но в сущности эта книга с первой до последней страницы — неважно, о прославлении Бруно Шульца или о расправе над Коттом речь — пинок под зад игре в польскую литературу по спущенным сверху правилам.
Не слишком ли он резанул по Рудницкому? Да так ли ужасен Анджеевский? Только не с ними борьба, а с пошлостью как таковой, с сомнительной изысканностью этой литературы. Я не склонен (подобно Сандауэру) объяснять их огрехи исключительно тем, что на дворе время брутальности и террора. Во-первых, оно давно уже кончилось, а во-вторых, искусство, будучи par excellence метафорой, неплохо переносит разнообразные инквизиции. В-третьих, наверное, достаточно было бы, если бы искусство в Польше не касалось политики, а разродилось хотя бы одной индивидуальностью, действительно глубокой и настоящей, — это заразило бы, заставило приложить усилия, задало бы уровень. Их убогость проистекает не столько из ситуации, сколько из их неспособности взглянуть правде в глаза. Но как вы хотите, чтобы они взглянули ей в глаза, если они так встроены в ситуацию? Ведь при всем своем страхе за представляемые ими духовные и художественные ценности они как-то пытались договориться с ситуацией, которая, впрочем, entre nous soit dit [183], им в немалой степени способствовала, устраняя конкурентов и вводя для них льготный тариф. Рецепт хорошего писательства только один: через условности приличий добираться до реальности, через условную действительность добираться до действительности в конечной инстанции. А что делают они? Они, актеры этого представления, погружены в свою историю, по уши в ней сидят — как же тут вырваться вперед? Даже враги, как Хласко, находятся в коммунизме, поскольку живут в художественном смысле им… и Сандауэр правильно сделал, включив в свою книгу краткое изложение карьеры этого талантливого автора, трогательно беспомощного, неспособного интеллектуально справиться со своими трудностями, сбитого с толку, примитивного, обреченного на обработку нескольких наивных тем. Хласко — интересен, но только как продукт коммунизма; он сын пошлости и ее составная часть.
Да, но если дело обстоит именно так, почему я сказал, что они опередили эмиграцию?
А потому, что, в противоположность вам, здешним, пошлость их мучает. Тон Сандауэра — холодное упорство в срывании масок — неслучаен, он необходим, и у него должно быть много, очень много адресатов в Польше (иногда у книги нет больших тиражей, но ее тон передается из уст в уста, как «общинная новость»). Мне этот критик нравится не во всем: он слишком высокопарен, его лишенное гибкости сухое интеллектуализирование кажется мне порой его слабостью, но, надо признать, никто из них не сподобился вложить перста в отверстую рану. Он сказал то, что уже больше не могло замалчиваться, нашел в себе ресурсы искренности, беспощадности, строгости, которые сегодняшней польской культуре абсолютно необходимы для ее будущего развития. Речь не о том или ином мнении, пусть иногда и неправильном, речь о том, что в этой книге, впервые со времени окончания войны, слышится голос книжника, возвращающий Польшу Европе (что не означает: европейскому капитализму).
Воскресенье
«Для Гомбровича Сандауэр стал в Польше тем, чем Еленьский был для него на европейской территории. Еленьский и Сандауэр — оба выталкивали его наверх с такой неутомимостью, которой он только удивлялся (потому что он практически не понимал, что в отношении чьих-то произведений можно пойти на что-то более активное, чем ни к чему не обязывающее простое признание). Он не мог не заметить, что о „Фердыдурке“ много говорится на страницах „Без льготного тарифа“, более того: для Сандауэра эта книга стала отправной точкой в наступлении на творчество писателей в Польше — entre nous soit dit, не могла Гомбровича не устроить книга, уничтожавшая всех вокруг ради установления абсолютного первенства его писательских достижений».
«Устраивала? Наверняка. И что? Из-за этого надо было сдержаться и не говорить о Сандауэре? Он счёл, что достаточно дать знать об этих отягощающих обстоятельствах, чтобы снять с себя все подозрения. Будучи признанным, этот комплекс лишался своего яда».
«Впрочем, он всё отчетливее видел, что его соглашение с Сандауэром далеко от совершенства, поскольку охватывало лишь часть его произведений и его персоны. От Сандауэра не следовало ожидать неимоверной восприимчивости и на лету хватающей впечатлительности Еленьского — Сандауэр был из рода одиночек, идущих своим путем, мастодонт, рак-отшельник, монах, гиппопотам, чудак, инквизитор, кактус, мученик, аппарат, крокодил, социолог и мститель. Этот анахорет выбирал из него (из Гомбровича) только то, что ему нравилось, и даже, как знать, в дальней перспективе надо было считаться с возможностью превращения союзника во врага… такое развитие событий, хоть и маловероятное, тоже не было исключено…»