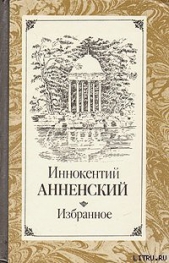Жена Гоголя и другие истории

Жена Гоголя и другие истории читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
II
На ее лице словно лежала какая-то тень, или, быть может, что-то сумрачное было в самом ее взгляде. Нет, не сумрачное: казалось, она смотрит против солнца или из-под сени своих ресниц; что-то темное, иначе сказать не могу. Или вот, третий вариант: что-то ночное, тенистое. Ее взгляд был робким и в то же время отважным; по-особому отважным, как у того, кто преодолевает испуг, или, точнее... словно бы надрывный, другого слова не подберешь. Ах, что толку?! Когда я пытаюсь описать его, мысли сразу начинают путаться... Словно бы немой, но немой чем-то. Можно быть немым чем-то, как бывают одержимы или переполнены чем-то? Если да, то ее взгляд был нем томлением, нежностью, но также и страданием, предвестием... Что за чушь я пишу? Ну неважно. А сама она, вся она, была прекрасна красотой, которую я не хочу назвать даже совершенной: больше, чем совершенство, иной, чем совершенство, была эта грозная, не сознающая себя красота. Говорят, женщины, сознающие свою привлекательность, самые опасные: разумеется, да, но для грубых умов, для ленивых чувств. По росту и фигуре — стройной и в меру высокой — я дал ей пятнадцать лет; столько ей и было, как я впоследствии узнал. Я встречался с ней по утрам, в восемь или несколькими минутами раньше, когда она шла в школу. Первая встреча была случайной, потом я стал подстраивать их, попадаясь ей на пути. Ее тело, насколько я мог разглядеть его под простеньким платьицем, сводило меня с ума; то ей приходилось сдвигать на бедро кипу книг, которую она несла под мышкой, и бедро четко выделялось, до умопомрачения нежное, выгнутое, округлое; то ветер дул сзади и сквозь юбку обрисовывал ее бока, то дул ей в лицо, и обрисовывались юная, но уже крепкая и упругая грудь, маленький живот, головокружительные впадины — у меня перехватывало дыхание. Ноги были уже вполне сформировавшиеся, стройные, смелые, и каждое их движение я чувствовал нутром, как мать чувствует ребенка у себя под сердцем. И еще — от этого можно было заплакать навзрыд, словно от чего-то ужасного, — она немного выворачивала ступни носками наружу, точно гусенок. Вначале она не обращала на меня внимания, затем стала поглядывать с неясным выражением из своего темного как ночь ореола. Темными как ночь были и ее волосы с маленькой челкой, и, конечно, пушок, растущий там, внизу... Но к чему продолжать этот бред, это неистовство памяти? Коротко говоря, вскоре я понял, что должен завладеть ею, что не смогу жить без нее и не смогу жить, не владея ею. Иначе я бы просто умер, умер от удушья. Была ли это любовь? Не знаю, мне дела нет; это было пламя, вулкан, фонтан крови, забивший во мне.
Но как завладеть ею, как хотя бы поговорить, не растревожив осиное гнездо, не возбудив недоброжелательства (это происходило в маленьком городке), не столкнувшись с неизбежными родителями, а может быть, и братьями, не будучи вынужденным оспаривать ее со слабой надеждой на победу у тех, кто без всякого права держал ее при себе, и у самого мира, куда ее угораздило попасть? У ее маленького, привычного мирка и у большого мира, в котором столь незаслуженно прозябала она, неприкосновенное создание, явившееся из глубин времени и пространства? Я не знал, на что решиться. Мечтал сказать ей ни с того ни с сего, как Гарибальди: «Ты моя!» Однако даже если бы она ответила или промолчала, как Анита, я-то ведь был не Гарибальди, и как бы я мог выполнить такое обязательство? Я не знал, на что решиться. Но все же не сомневался: она здесь для того, чтобы стать моей опорой, придать моей жизни полноту и законченность и в то же время чтобы просить моей поддержки и наполниться мной, поделиться своей неземной добродетелью и получить взамен половину моей крови. Разве могло что бы то ни было воспрепятствовать исполнению этой божественной судьбы?.. Я и сейчас безумен, я это знаю: нельзя выражаться так! А выражаясь проще, ясно было одно: требовалось как минимум ее согласие.
Я уже сказал, что она начала поглядывать на меня с неясным выражением. Я попытался вникнуть в смысл этих взглядов; не буду перечислять здесь все мои догадки. В конце концов я решил, что взгляды эти можно истолковать примерно так: «Ты нравишься мне просто потому, что нравишься, и еще потому, что тебе нравлюсь я, бедная девчушка, не имеющая пока что права на внимание мужчин... но у меня есть тайна». Разумеется, то было примитивное и к тому же приблизительное толкование, сиюминутная польза от него была невелика; но что поделаешь, если мне приходилось продвигаться на ощупь? В любом случае эта гипотеза представлялась утешительной, поскольку исключала какую-либо неприязнь с ее стороны — по-видимому, отвращения ко мне она не испытывала. Убедившись в этом, я мог действовать как математик, который выдвигает гипотезу и, если она не оправдывает себя, волен выдвинуть следующую. А насчет того, что у нее, видимо, есть какая-то тайна, то, думалось мне, это было излишество моего толкования, несущественная подробность, которая прояснится в будущем. Само собой, если бы у нее был какой-то тайный грешок, он превратился бы в моего могучего союзника... Чертовы разъяснения — в них все теряется! А ведь на этих страницах ты должна снова ожить, и снова умереть, и снова стать моей, как уже стала однажды. Впрочем, они и бесполезны, все эти разъяснения: я разобрался во всем гораздо раньше, чем рассчитывал.
Я изучил ее привычки. И узнал, что она любит в одиночестве кататься на велосипеде. Она почти всегда появлялась одна и только изредка в сопровождении кого-нибудь из родных — но почему? Больше всего ей нравилось уезжать в дальний конец аллеи, ведущей к морю, и была там скамейка, на которую она иногда присаживалась отдохнуть. Так вот, позади этой скамейки имелся маленький теннисный корт, а над ним был сделан плетеный соломенный навес. Край навеса выступал на ладонь или две, образуя по углам надежное укрытие и удобный наблюдательный пост. Там я мог притаиться и ждать, а она, придя, думала бы, что она одна. Корт обычно пустовал, по крайней мере ранним вечером, когда она приезжала. Мой план ясен: воспользоваться этими благоприятными обстоятельствами, чтобы каким-то образом подойти к ней, а по возможности и разговориться. Я тут же приступил к делу.
В первый вечер она не появилась. Во второй я еще издали увидел, как она едет, медленно, словно бы нерешительно, покачиваясь на велосипеде. Я ушел в укрытие; она доехала до скамейки, оперлась на нее, потом слезла с велосипеда, обвела все вокруг своим сумрачным взглядом и наконец села. Момент настал, я с рассеянным видом вышел из укрытия. Она глядела на море и не обратила на меня никакого внимания. Вернее, она меня заметила и, конечно же, узнала, но подумала, что я пройду мимо. А я вместо этого тоже уселся на скамейку, с другого края. Но что я должен был ей сказать? Ничего, лучше всего было вообще ничего не говорить, а просто сидеть и смотреть. Она сидела неподвижно и все еще глядела на море, но я с удовольствием отметил, что она чуть-чуть встревожилась. Я видел, как подрагивает крохотное ушко, как сжимаются губы — сжимаются едва заметно, но от этого движения ее чудный профиль как-то странно и смешно менялся, возвращаясь назад, если так можно сказать, к своему детскому контуру. Но я совершенно не представлял, как использовать волнение девушки к своей выгоде; к тому же сознавал, что через минуту-другую она уйдет — и до свиданья.
Я напряженно думал, как быть дальше. И то, что пришло мне в голову, было весьма необычно, но, в сущности, являлось естественным продолжением моих первоначальных побуждений. Короче, видя, что она взволнована, я вначале ощутил желание успокоить, приласкать ее. Но для этого у меня не было достаточно веского предлога; поэтому я решил, напротив, усилить ее волнение настолько, чтобы это оправдывало мое вмешательство. Так я решил, а затем принялся сквозь зубы напевать что-то старинное (я не хотел рисковать, исполняя какой-нибудь модный мотивчик, который мог быть ей противен, равно как не желал показаться ей слишком или, наоборот, недостаточно умным), потом коротко и зловеще рассмеялся неизвестно над чем, наконец пробурчал что-то, будто бы в ответ собственным, внезапно нахлынувшим мыслям, и все это с бурной жестикуляцией — словом, играл роль полупомешанного субъекта, какие любят сидеть на скамейке в парке (по правде говоря, в ту минуту я был помешан больше, чем наполовину). Тут, как я и предвидел, она обернулась и хмуро посмотрела на меня, якобы равнодушно, а на самом деле с некоторым испугом. Потом встала, нарочито медленно, собираясь не бежать, а просто удалиться. А я уже успел решить проблему, как с ней заговорить: как с девочкой или как с барышней, потому что понял преимущества первого варианта. Итак, я сказал: