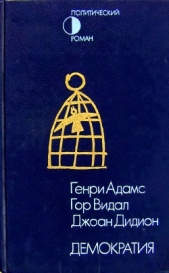Медленные челюсти демократии
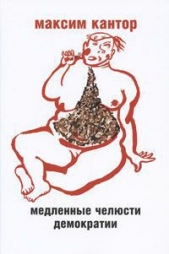
Медленные челюсти демократии читать книгу онлайн
Максим Кантор, автор знаменитого «Учебника рисования», в своей новой книге анализирует эволюцию понятия «демократия» и связанных с этим понятием исторических идеалов. Актуальные темы идею империи, стратегию художественного авангарда, цели Второй мировой войны, права человека и тоталитаризм, тактику коллаборационизма, петровские реформы и рыночную экономику — автор рассматривает внутри общей эволюции демократического общества Максим Кантор вводит понятия «демократическая война», «компрадорская интеллигенция», «капиталистический реализм», «цивилизация хомяков», и называет наш путь в рыночную демократию — «три шага в бреду». Книга художественная и научная, смешная и страшная, — как сама наша жизнь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Также мы можем вычленить в искусстве элемент фантазии — художники создают такие вещи, что поражают наше воображение необычностью, вне зависимости от того, как именно исполнено произведение. Художник подчас придумывает такие конструкции, которые преображают мир, раскрывают невидимые прежде сущности. И здесь мы также должны будем признать, что современные мастера не обладают столь небывалой фантазией, какой были наделены Босх, Данте или Леонардо. Инсталляции Бойса являют нам необычную фантазию мастера, но вряд ли оправданно будет сказать, что Бойс придумал более сложное устройство мира, нежели Данте, изобрел столь же виртуозные машины, как Леонардо, создал столь прихотливых существ, как Босх. Его фантазия, вероятно, иного свойства — можно предположить, что в деятельности Бойса присутствует так много нового вещества «авангарда», что качество фантазии претерпело изменения. Квадратики Малевича и Мондриана несомненно обладают свойством необычности — однако не в той же степени, что «Каприччос» Гойи. Наверное, правильно будет сказать, что волшебная добавка «авангарда» перевела самую фантазию в иное качество.
Также в искусстве существует элемент дидактики: произведения искусства обладают способностью нечто внушать, вселять веру, приобщать к знаниям. Скажем, зритель икон Треченто и посетитель соборов получает представление о духовной иерархии христианства, о содержании книг Священного писания и может уверовать в Бога. И в данном пункте будет затруднительно сказать, что искусство авангарда обладает способностью рассказать о мире и объяснить мир — в большей степени, чем, скажем, фрески Микеланджело или иконопись. Несомненно, Мартин Льюис, проводящий полоски по холсту, в какой-то степени свидетельствует о своем времени — но вряд ли его рассказ столь же полон, как серии офортов Гойи, по которым можно реконструировать Наполеоновские войны в Испании. Конечно же, холсты Клее и писсуар Дюшана производят некое дидактическое действие — но это дидактика иного качества, нежели дидактика Джованни Беллини или Винсента Ван Гога. Разницу обнаружить легко: мы знаем, что именно внушает нам Ван Гог, во что заставляет верить Беллини, а что хочет внушить нам Дюшан — не вполне понятно. Конечно (и так принято говорить), прочтение произведения искусства всегда вариабельно — возможностью различных толкований и отличается искусство от политического лозунга. И все же никому не придет в голову, что «Свобода на баррикадах» Делакруа есть оправдание правительственных войск, стрелявших в народ; образ Мадонны приводит к разным мыслям, но только не к оправданию садизма. Иными словами, сложность художественного образа не допускает толкований, отменяющих этот образ. О «Писсуаре» Дюшана можно думать что угодно — и в этом несомненная особенность авангардного произведения. Толкований «Черного квадрата» существуют десятки — и нет ни одного определенного, кроме того, что это квадрат. Вероятно, следует сказать, что в деятельности Дюшана и Малевича содержится такое количество волшебного элемента «авангарда», что даже сама дидактика оказалась преобразованной — она лишилась директивы. Однако, несмотря на эту не вполне определенную дидактику, мы не можем отрицать очевидную энергию, исходящую от авангардных произведений. Возможно, эта не поддающаяся определению энергия и есть волшебное свойство авангарда. Неуловимая и трудно определимая энергия оказывает на зрителя давление, возбуждает его, будоражит чувства.
Помимо прочих, в искусстве следует выделить специальное формообразующее свойство, формирующее человека. История о скульпторе Пигмалионе и ожившей статуе Галатее весьма точно выражает миссию художника: он создает человека по образу и подобию своего искусства. Так, искусство Античности заставляло зрителя соотносить себя со статуями, делаться красивее и значительнее. Фразы, произнесенные в колоннадах Форума, звучат иначе, нежели сказанные на даче. Попробуйте сказать на веранде дачи: «Рим выкупается не золотом, но железом», — и ваш собеседник подумает, что вы имеете в виду акции рудных компаний. Искусство Ренессанса также требовало в собеседники определенного зрителя: оно провоцировало образование, поощряло умения, развивало ум. До известной степени мы можем судить об искусстве на основании типа личности, им сформированной. Надо сказать, что тип человека, сформированного общением с авангардными произведениями, ничем особенно не примечателен. Он не блещет знаниями, не привлекает красотой поступка. Напротив, человек эпохи авангарда поражает причудливым сочетанием полу-знаний, полу-умений. Особый дух богемы — того образа жизни, при котором собутыльники кажутся великими поэтами и художниками, и можно лишь диву даваться, как застолье свело вместе столько талантов — произвел множество околотворческих персонажей, привлекательных и знаменитых, но решительно ничем себя не проявивших. Бесплодные, но яркие характеры составляют колорит эпохи. Пегги Гуггенхайм, галерист-коллекционер, общая жена, признанная мудрой на основании больших денег, Марсель Дюшан, инициатор множества акций, самонадеянный человек, в сущности, не сделавший в жизни ничего — это типичные персонажи тех лет. Как и в наше время, когда мы можем твердо сказать, что некто — гений авангарда, но что именно он сделал, знать не обязательно, так и при зарождении движения ценилась не собственно деятельность, но возбуждение, произведенное ею. Носители полу-знаний и полу-умений сделались важнее носителей узкой специализации, важнее именно потому, что воплощали размытость границ жанра, необязательность собственно творчества. Символом русского авангарда стал поэт Хлебников, не закончивший практически ни одной вещи, и его знаменитое «и так далее», которым он завершал чтение отрывка. Бурлюк, совмещавший множество жанров, но не отличившийся ни в одном, стал учителем футуристов. Но (и это важно для понимания авангарда) размытость жанров сама по себе стала жанром, отсутствие профессии — профессией, отрицание ремесла — особым ремеслом.
Все это вместе развило в авангардном человеке важнейшую способность — способность воодушевляться без повода; пожалуй, можно сказать, что авангард затронул такие струны в человеческой натуре, которые до него не удавалось тронуть никому из признанных европейских мастеров. Не просто растрогать, не заставить сострадать, не дать повод задуматься — но именно безосновательно возбудить, привести в экстатическое состояние без причины. Нередко приходится видеть барышень, созерцающих в музеях современного искусства полоски и кубики, — и пребывающих в состоянии гипнотического транса. Зрители, несомненно, обуреваемы эмоциями, хотя объяснить, что именно привело их в дрожащее состояние — не могут. Будут (не без помощи кураторов и советов специальной литературы) уверять, что ощущают небывалый подъем, видя, как раскрепощен мастер, проведший полоски или сложивший кубики в кучку. Зрители испытывают столь же большое волнение, как например от поучительной литературы, которую им в детстве читала бабушка. Ясно, что кучка кубиков не может быть приравнена к бабушке — ни по силе любви, ни по теплоте, ни по желанию научить. И вообще ничего персонального — от человека к человеку — кучка кубиков сообщить не может: например, средствами авангардной эстетики невозможно объясниться в любви к бабушке. И однако, несмотря на вопиющую разницу с персональным сообщением, сообщение авангарда повергает зрителя в неконтролируемое волнение. Объяснить этот эффект логически — трудно. Перед нами социальный феномен — своего рода новая религия, воскрешающая древнее поклонение деревьям и лишайникам. В этом беспричинно возбудимом состоянии состоит специальное свойство человека, авангардом сформированного.
Это свойство человека авангарда лежит в основе главного авангардного достижения. В искусстве, помимо перечисленных выше компонентов — ремесла, фантазии, дидактики, присутствует также компонент, который можно определить как «способность образования социума». Например, массовик-затейник в парке собирает вокруг себя кружок зевак — хотя не владеет никаким ремеслом, его действия лишены дидактики, и фантазией он не блещет. Искусство обладает способностью организовывать мир, феномен Галатеи распространяется на все общество. Всякое произведение рано или поздно формирует круг своих зрителей, и шире — рано или поздно искусство формирует общество в целом. Самый узкий круг почитателей таланта художника есть прообраз социума, сформированного искусством. Хотя круг любителей Боттичелли не вполне совпадает с кругом любителей Микеланджело, вместе они образуют круг любителей изобразительного искусства Ренессанса; совокупно с кругом любителей поэзии, театра, философии, архитектуры тех лет — образуется общность людей, пользующаяся одними и теми же социальными кодами. Случается так, что искусство берет на себя в буквальном смысле слова строительную функцию в социуме — так было во Флоренции пятнадцатого века, так было и в начале двадцатого века в Европе. Соединение политических программ, художественных проектов, принципов общежития — образовало такую деятельность, которую назвать просто искусством не получается. Вероятно, рисунок авангардиста является не вполне рисунком, фантазия не столь уж интересной фантазией, а дидактика не вполне убедительной дидактикой — потому, что все вместе (и дидактика, и фантазия; и ремесло) направлено на создание нового мира, нового общества, в котором старые критерии фантазии и ремесла уже не годятся. Рисунок Бойса, не обладающий большой ценностью с точки зрения ремесла рисования, или фантазия Малевича, уступающая фантазии Леонардо, — по всей видимости, приобретают иные качества в том мире, который формирует авангард. Призывы сжечь музеи и сбросить культурные авторитеты с «парохода современности», призывы, которые часто звучали из уст авангардистов, важны еще и потому, что в новом мире критерии качества и музеи уже будут совсем иными. Я часто встречал любителей искусства, которые отлично знакомы с рисунками Бойса и считают их шедеврами рисования, а рисунков Леонардо не видели вообще. Так происходит именно потому, что искусство авангарда сформировало свое общество, слепило социум по своим меркам и лекалам — и отныне авангард судим внутри этого общества.