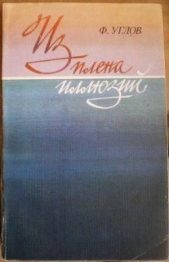У Пяти углов

У Пяти углов читать книгу онлайн
Михаил Чулаки — автор повестей и романов «Что почем?», «Тенор», «Вечный хлеб», «Четыре портрета» и других. В новую его книгу вошли повести и рассказы последних лет. Пять углов — известный перекресток в центре Ленинграда, и все герои книги — ленинградцы, люди разных возрастов и разных профессий, но одинаково любящие свой город, воспитанные на его культурных и исторических традициях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут Павел Порфирьевич невольно сам заплакал, тронутый воспоминаниями. И знал, что завтра, рассказывая уже вслух, снова заплачет, но это ничего, даже и правильно, что переживает: не бесчувственный же!
Да, так все и было…
Только было не с ним.
Они тогда жили ближе к Пяти углам, в тридцать шестом доме. И сосед у них со смешной фамилией Мизгирь — как из какой-то оперетты. Андрей Матвеевич. Другие соседи, Горницкие, эвакуировались в самом начале войны, и остались в квартире две семьи: Бочаровы — то есть Павел Порфирьевич с женой и Люсей, которой тогда только годик, и Мизгири, тоже трое: Андрей Матвеевич, Таня, жена, и сыну их восемь лет, Косте. Мизгиря не взяли в армию, потому что во время финской он отморозил ногу и пришлось ампутировать по колено. Ну а у самого Павла Порфирьевича с детства порок сердца. Но, конечно, оба работали. Мизгирь на заводе табельщиком или нормировщиком — какая-то Должность, чтобы не за станком, а больше сидеть. Когда без образования, таких должностей мало, но Мизгирю подыскали ради его протеза. А Павел Порфирьевич фельдшером. С детства он по врачам из-за своего порока, да так и остался при медицине. Где-нибудь в поликлинике тогда работа — хуже, чем почтальоном: тоже целый день по этажам, по обледенелым лестницам — и за один паек, ни грамма сверху. Но он устроился в стационар в «Асторию»— открыли тогда стационары для полных дистрофиков, больше кормление, чем лечение, хотя и в стационаре тоже далеко до нормального. Но все-таки больше, чем по карточке. Конечно, сам там питался и домой уходил с бидончиком. Ну, это бы полдела — важно, что в бидончике!
С самого начала, когда в первый раз сократили пайки и понял Павел Порфирьевич, куда клонится, завидовал он поварам и тем, кто при булочных, при складах — при конкретных продуктах, короче. Ругал себя, зачем сам не пошел раньше по кухонной линии, зачем связался с медициной! Завидовал поварам, а потому следил.
Стационар в «Астории» открыли только в январе. Правда, в первой декаде. А до этого Павел Порфирьевич работал в Куйбышевке. Но постарался перевестись, потому что узнал, что «Асторию» будут снабжать лучше: там для творческих работников. Удалось перевестись, потому что организовали стационар заново, набирали штаты. Там и выпало настоящее счастье, твердое спасение: поймал с поличным самого Евграфа Давыдовича, Графа-Евграфа: тот выходил с крупой, с перловкой, нес мало не два килограмма. Павел Порфирьевич не поднял шума, и Граф-Евграф это оценил. Не мог не оценить, не было у него другого выхода. Потому и в бидончик наливал погуще, и каждую неделю плитка шоколада как минимум, и сахар, и галеты, и та же крупа. Каши варили на буржуйке в комнате, чтобы не видели Мизгири. Но что-то чуяли. Запах ведь не удержишь, утекал, наверное, сквозь дверь. Косте восемь лет, все уже понимал пацан, так вечно крутился в коридоре. Тогда ведь и уборные замерзли, потому нужно было горшки выносить подальше, чтобы соседи не заглянули, тот же Костя: с голоду стали разбираться не хуже лаборантов, а ведь перловка часто выходит полупереваренной. Да, все предусмотреть… Но ожили. Ведь до января — еще декабрь пережить. Правда, бидончики носил и из Куйбышевки, да и дома нашлось кое-что: сухой горох почему-то, капуста своя квашеная, варенья перезасахаренного килограмм пять еще с лета сорокового — жена, молодец, не собралась выкинуть. Петому дуранды Бочаровым не пришлось попробовать. Ни дуранды, ни шрота, ни этого черного рыночного студня, непонятно из чего сваренного…
И когда шел он по нерасчищенным улицам мимо замерзших мертвецов, мимо еще живых, которые сели в сугроб — и, значит, уже не встанут, он если и чувствовал к ним жалость — вообще-то люди дошли до бесчувствия, но он мог себе позволить жалость, — то жалость снисходительную: что ж вы, и сами не выжили, и семью небось не смогли вытянуть. У замерзших почти всегда глаза бывали открыты. И в них укор. Пока сидит еще живой — глаза безразличные, а отлетит дух — тогда укор. Но Павел Порфирьевич на эти укоры внимания не обращал. Вот молоток носил с собой — чтобы спокойнее, когда с бидончиком: потому что если и бояться кого, то тех, еще живых, хоть у них и глаза безразличные. В ход пустить не пришлось. А вообще бывало всякое. На их собственной черной лестнице лежал мужчина. Сутки лежал, а как на вторые — уже без ноги. Потому спокойнее с молотком… Конечно, от снаряда или бомбы ему тоже никаких гарантий, тут он как все, на общих основа-киях — и он, и жена, и дочка, — но какой тогда процент от снаряда? В бомбоубежище, конечно, спускались всегда, как только сирена и голос этот из тарелки: в декабре — январе многие не спускались, те же Мизгири, а Бочаровы — всегда.
В начале февраля Мизгири все еще были живы. Жили на одни карточки. С завода своего ему принести нечего, ну только если полсупа, что сам не доест. Снести на рынок — тоже нечего. Раза два приходил счастливый: за обед на заводе вырезали только хлеб и мясо, а крупу и жир можно еще и в магазине отоварить! Не много же ему нужно для счастья.
Между прочим, тогда-то Павел Порфирьевич совершил очень благородный поступок, только о нем не расскажешь завтрашним следопытам. И Свете не расскажешь.
Горницкие, те, что эвакуировались, оставили одну комнату неопечатанную. Сам же Павел Порфирьевич их и попросил, потому что в этой комнате стоял телефон — тогда же не знали, что скоро телефоны выключат. И когда зашел позвонить уже после отъезда Горницких, увидел прямо на столе сверток. Увесистый. Завязан — не развязать. Надорвал бумагу: серебро — вилки, ложки— остатки былой роскоши: отец Горницкого когда-то был известный врач, до революции они занимали всю квартиру. А рядом на столе же, будто нарочно: опись оставленных вещей. Полагалось тогда описывать вещи, уезжая в эвакуацию. Но серебра в описи нет. Значит, хотели увезти, да впопыхах забыли. Для начала Павел Порфирьевич переложил в буфет: чтобы не на виду, мало ли кто зайдет. А в январе, когда перешел в «Асторию» и дистрофии больше не боялся, стало вдруг жаль Мизгиря, который ничего, кроме карточки, не умеет заработать. Тут и вспомнил про оставленное серебро, предложил Мизгирю: «Возьми ты его да сменяй на продукты! Раз не в описи, оно как ничейное». Ну это же не честность, а глупость — отказаться! Горняцкие в эвакуации — все равно что в другом мире. Тут в блокаде сейчас особые законы: всё, что здесь в кольце, — оно для них, для оставшихся, чтобы помочь выжить! И умирать, сохраняя серебро для Горницких, которые жрут сейчас где-то в Алма-Ате настоящий хлеб с довоенным маслом, — трижды глупо! Но отказался, хромой идиот. Жену бы пожалел, сына! Нет…
Пришлось взять самому. Тем более пошли слухи, что будут ходить от домкома, проверять по описям. Мизгирю сказал, что сам отнес на Кузнечный, получил две буханки хлеба да кило сахару. Тот поверил. Вряд ли в январе столько дали бы за те вилки-ложки; Павел Порфирьевич сам не приценивался, но представлял, что на что выменивают, — со слов Графа-Евграфа. А Мизгирь и вовсе не знал цены вещам, вернее, обесценения, потому что ему менять было нечего; Танька его сходила однажды на рынок, купила кусок дуранды за сорок рублей — устроила пир своим мужикам. Но когда Павел Порфирьевич рассказал Мизгирю, что выменял на горницкое серебро, и объяснил, что половина ему как общее наследство от соседей, — тот еще стал выкобениваться, напирать на честность. Хорошо, Танька его взяла. Прикрикнула на своего идиота-мужа и взяла. Женщины разумнее. Мог Павел Порфирьевич ничего не говорить про серебро, не всучать чуть не насильно буханку хлеба и полкило сахару? Свободно мог. А тогда такой подарок — все равно что «Жигули» в придачу к даче! Нет, не сравнить и с дачей. Жизнь ни с чем не сравнить. Но вот вручил… Это-то и есть настоящий благородный поступок — из жизни, а не из красивых книжек, но не объяснить этого теперешним пионерам. И родной внучке не объяснить.
Тогда, перепрятывая горницкое серебро уже в собственный буфет, пережил Павел Порфирьевич то самое Искушение с большой буквы: что, если и вправду пойти на Кузнечный, но не с серебром, а с парой пачек галет да плиткой шоколада? И принести оттуда… Но не поддался, потому что хотел оставаться честным. Смотреть прямо в глаза. Пока он только ради семьи, ради Люськи, которая не плачет от голода, как девочка в квартире этажом ниже, — пока ради них, ради жены с дочкой, до тех пор он может смотреть прямо в глаза, он не Граф-Евграф! А Мизгирь со своим честным принципом — как он может смотреть в глаза своему Косте?! В восемь лет — морщинистый старичок…