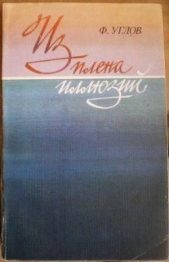У Пяти углов

У Пяти углов читать книгу онлайн
Михаил Чулаки — автор повестей и романов «Что почем?», «Тенор», «Вечный хлеб», «Четыре портрета» и других. В новую его книгу вошли повести и рассказы последних лет. Пять углов — известный перекресток в центре Ленинграда, и все герои книги — ленинградцы, люди разных возрастов и разных профессий, но одинаково любящие свой город, воспитанные на его культурных и исторических традициях.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пойдем сейчас ко мне.
(Значит, дело было до ее первого визита, до незабываемого «Да отвяжись ты!».)
Она не соглашалась. Но я просто крепко взял ее за руку и повел.
Она говорила:
— Пусти, люди смотрят! Она говорила:
— Я сейчас закричу. Позову милиционера. Она говорила:
— Я не терплю насилия.
Она говорила:
— Со мной так еще никто не обращался. Нет правда.
Я ее вел. Я чувствовал себя победителем.
Но я не выдержал до конца. Я начал ее уговаривать.
Мое дело было проиграно.
Она же все-таки шла, когда я вел ее якобы насильно. Шла добровольно в конце концов, потому что легко могла вырваться. Но мне нужно было формальное словесное согласие, словно удостоверение с печатью. Ну и поделом мне.
И вот новое провожание спустя много лет. Традиционное и безнадежное. Она только что вернулась из отпуска, шла рядом загорелая и особенно прекрасная. Мы долго молчали.
— Ну скажи что-нибудь. Скажи, что до сих пор меня любишь. Ты мне давно этого не говорил.
— Ну конечно, я тебя люблю.
— Если бы ты знал, как мне необходимо это слышать время от времени.
— Вот и шла бы за меня замуж.
— Молчи.
Мы помолчали.
Перед домом Бемби остановилась. Легко мгновенно прижалась ко мне и шепнула:
— Хорошо, что ты есть. И убежала.
Тонкая, как девочка. Наделенная врожденным совершенством движений.
Я стоял счастливый и готовый впасть в отчаяние одновременно.
«Хорошо, что ты есть».
Стоит жить, чтобы услышать такое. Нет, правда.
Но если разобраться: у нее есть семья — муж, сын. И еще есть я. Образец непоколебимой верности, проверен десятилетним беспорочным стажем. Более стойкую верность найдешь разве что в «Тристане и Изольде».
Раз в два-три месяца мы сидим около часа в каком-нибудь кафе или мороженице («Какие у твоего мужа, деточка, красивые зубы»), потом я ее провожаю. Сейчас они живут в кооперативе на проспекте Космонавтов, туда, к моему счастью, так же далеко, как до Охты. Несколько раз — в хорошую погоду — мы даже ходили пешком. Сидели у пруда в Парке Победы.
Но каково мне в эти двухмесячные промежутки?!
Когда каждый телефонный звонок может означать, что звонит она. Но звонят все, кто угодно, кроме нее. «Хорошо, что ты есть».
Непрерывное ожидание, ежедневное напрасное ожидание — вот что такое аз есмь.
И невозможно же выдержать такое постоянное напряжение! Есть же предел выносливости, как есть предел боли. И если боль становится нестерпимой — наступает бесчувствие, болевой шок.
Вот я и проснулся на исходе одиннадцатого года нашего знакомства, утром в воскресенье, успокоенный и свободный.
Ну вот все и прошло.
Тишина. Необычно легко на душе.
Она меня не любит?! А мне все равно.
Она, может быть, с другим?! А мне все равно.
Она прекрасна! А мне все равно.
Хорошо.
Но все-таки,
все-таки даже теперь, уже без чрезмерных чувств, холодным умом,—
все-таки даже теперь я не могу представить себе,
что наши жизни так и пройдут независимо и параллельно,
так и окончатся врозь.
Видно, просто есть вещи, недоступные человеческому воображению,
как недоступно ему представление о небытии, как недоступно ему представление о бесконечности Вселенной.
ДЕДУН
РАССКАЗ
Позвонила Света и сказала, что завтра придут следопыты из ее класса, будут записывать, что дедун здесь пережил в блокаду. Так его внучка называет: не дедушка, не дед — дедун. Когда была совсем маленькая, устраивалась у него на коленях как в кресле, гладила жесткую бороду и повторяла: «Дедун-колдун. Тогда еще бороды носили реже, чем сейчас, и Павел Пор-фирьевич со своей седой бородой, закрывавшей весь галстук, и вправду имел вид немного сказочный. С тех пор и осталось: дедун. Чужим и вообще посторонним, может быть, и смешно, а Павлу Порфирьевичу нравится. Да ему все нравится, что говорит и делает Света, а больше всего то, как она гордится, что у нее такой замечательный дедун. Старики часто ругают нынешнюю молодежь: за некультурность, за запросы, за то, что появились на готовенькое, сами ничего еще не создали, а уже требуют… И в целом молодежь, и собственных детей и внуков — конкретно. А Павлу Порфирьевичу повезло с внучкой, жаловаться грех.
Или неправильно сказать: повезло? Не везение, а результат правильного воспитания. Если Света с рождения слышит, как здесь жили в блокаду, конкретно, что перенес и какие поступки совершил ее дедун, — как же ей не Еырасти настоящим человеком? Ну может, еще рано сказать про Свету: Человек с большой буквы, большую букву еще надо заслужить, но к тому идет.
Завтрашние следопыты разволновали Павла Пор-фирьевича, потому он никак не мог заснуть. Своим — сначала Люсе, пока маленькая, потом выросла — появился зять Федор, потом вот Света, теперь и Света полгода замужем, значит, и младшему зятю Валентину, — своим Павел Порфирьевич рассказывал про блокадную жизнь много раз, но никогда еще не собирались к нему, чтобы выслушать и увековечить его жизнь и поступки, люди официальные; а завтрашние следопыты, хотя еще совсем пионеры, все-таки люди официальные: запишут все конкретно, сохранят тетрадки в своем музее. Потому Павел Порфирьевич снова и снова повторял про себя свои рассказы, чтобы завтра не сбиться, не напутать, а то ведь посмеются: склероз! Все-таки нынешняя молодежь…
Но поскольку много раз он все это рассказывал и Люсе, и Люсе вместе с ее Федором, и Свете, и ее Валентину уже успел, то получалось очень складно — по крайней мере, пока про себя.
Особенно самый главный рассказ:
«Зимой сорок второго года, дорогие ребята, а конкретно: в феврале, произошел случай, который навсегда врезался мне в память. У меня был знакомый, который жил здесь недалеко на Саперном переулке. А я и тогда ка Рубинштейна, только в другом доме. А знакомый на Саперном, это считалось близко, хотя если сейчас с Рубинштейна на Саперный, то редко кто пешком, постарается на каком-нибудь транспорте. Считалось близко, потому что тогда в феврале не ходил даже трамвай, и приходилось многим на работу пешком с Выборгской ка Петроградскую, например. И ходили, хотя мороз небывалый в истории, улицы нерасчищенные от льда и снега, и голодные все, почти падают. А сейчас никто не пойдет с Выборгской на Петроградскую, хотя и улицы расчищены, и тепло одеты, и сыты… Вы не думайте, что я забыл, о чем начал, я отвлекся умышленно, чтобы вы конкретно представили обстановку.
Пришел мой знакомый с Саперного и говорит: «Я знаю, что мне не выжить, у меня дистрофия последней степени, но у меня неотоваренные карточки, и я не хочу, чтобы они пропали. У меня сестра живет на проспекте Стачек, я ждал, что она придет, а она не приходит, больше ждать нельзя. Отнесите ей, пожалуйста, карточки; может быть, тогда она выживет. У нее сын девяти лет. Может, и он выживет, если лишний паек».
А февраль только начинался, и неотоваренные карточки на месяц вперед. Да и карточка рабочая, по которой самый большой паек.
Оставил карточку и ушел. Вам сейчас непонятно, как же я его отпустил, если человек говорит, что ему не выжить и карточку свою оставляет?! А я его накормить не мог, потому что совсем нечем, только напоил горячим кипятком с маленьким кусочком вареной дуранды. Вы ведь не знаете, что такое дуранда?..»
В этом месте мысленного рассказа Павел Порфирьевич как бы запнулся: по ходу получается, что нужно объяснить, что такое дуранда, а он сам не то что не знает, но сомневается, потерял уверенность. Неужели и вправду склероз? Хорошо, что прорепетировал мысленно! Надо уточнить конкретно. Но как, у кого? У блокадника не спросишь, а остальные не знают…
«…Напоил горячим кипятком с маленьким заплесневелым сухариком.
Он оставил карточку и ушел. Вы сейчас и не поймете до конца всех моих переживаний. Скажете, что надо отнести карточку сестре того знакомого — и все. Или позвонить, чтобы зашла сама. Но телефон тогда не работал, почта тоже плохо работала, письмо могло не дойти. Или шло бы долго, а она бы умерла за это время. Но и не это самое трудное, А что самое трудное, вам сейчас и не представить, потому что вы все правильно воспитаны и хорошо знаете, что такое честность и порядочность. Но очень легко быть честным, когда ты сыт, когда все у тебя есть. А когда ты совсем ослаб от дистрофии, тогда совсем другое дело. Вы представьте: ведь сестра того знакомого не знала, что карточки у меня! Никто не знал! Значит, я мог их отоварить сам! Получить паек и съесть! И жену накормить, и маленькую дочку, маму вашей учительницы Светланы Федоровны. Сейчас легко быть честным, и то встречаются нечестные люди. А тогда! Знаете, сколько народу вокруг умирало от голода? И я не знал, выживу или умру. И выживут ли жена с дочкой. Их я должен спасать сначала! Отдам карточки, а жена умрет, или дочка, — потом всю жизнь себе не прощу! А те люди — я их и не знаю. Знакомого того, который пришел с Саперного, знал, да и то не близкий друг — ну, работали до войны вместе. А сестру его совсем не знаю, не видел никогда, и сына ее тоже. Вот такое дело. Сейчас легко решать, а тогда… Вы знаете уже такое слово: «искушение»? Проходили? Вот это и было мне самое настоящее Искушение с большой буквы. Но я себе сказал: «Если ты хочешь остаться Человеком с большой буквы, ты не будешь спасаться за счет цены чужой смерти!» И я пошел на проспект Стачек. Сейчас туда все едут только на метро, а я пошел пешком и шел четыре часа. Потому что очень голодный, потому что мороз почти сорок градусов, потому что улицы завалены снегом. А в снегу часто мертвые, которые упали от голода и замерзли. И я не знал, дойду ли, или останусь тоже лежать в снегу. Между прочим, я больной, у меня порок сердца, от этого тоже труднее идти. Но я уже решил, и ничто не могло меня остановить. Кроме смерти. Но я дошел, и сестра того знакомого была еще жива и сын ее тоже. Но оба совсем слабые. Она заплакала и хотела поцеловать мне руку, а мальчику своему повторяла: «Посмотри, Толик, и запомни на всю жизнь, потому что это наш спаситель! Настоящий Ленинградец с большой буквы!»…»