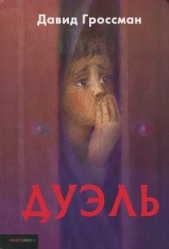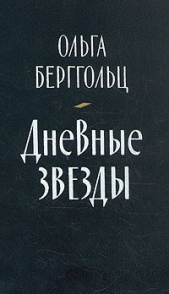См. статью «Любовь»
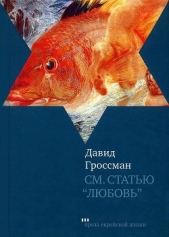
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Похоже, что последнее сообщение нисколько не утешает ни Вассермана, ни Найгеля.
— Страна изгнания… — бормочет мой дед.
Найгель:
— Битте, герр Вассерман, но послушайте…
Фрид: Великий Боже!
Восклицание это относится не к странному умоляющему тону коменданта, а к новым достижениям младенца: тот уже стоит на своих коротеньких пухлых ножках и радостно улыбается. Волна нежности и жалости подхватывает Фрида и в одно мгновение вымывает прочь из всех закоулков его души и всех извилин его существа несносную гибельную тяжесть, которую он так долго копил в своем сердце. Доктор тычет закостеневшим пальцем в собственную грудь и хрипло произносит:
— Папа.
И ребенок повторяет:
— Папа!
Господин Маркус: Бедный наш добрый Фрид! Будто игла вонзилась ему в грудь — так бывает, когда раскроется вдруг нечаянно застежка ордена, выданного за особую доблесть.
Одну минуту врач колеблется, а затем — да сотрется память об этой подлой проделке, которую вытворила с ним судьба! — говорит:
— Ты — Казик.
И младенец доверчиво повторяет присвоенное ему имя. И оно так нравится ему, что он принимается снова и снова пробовать его на вкус и перекатывать на языке:
— Казик, Казик!..
Страстное желание охватило Фрида — любой ценой защитить и спасти этого малыша. Спрятать в своих объятиях. Огненным мечом оградить слабое беспомощное создание от надвигающегося на него бедствия — чтобы никакая кручина и никакая хвороба не смели подступиться к нему! Но неминуемая гибель уже угнездилась в нежном тельце, уже пустила свои мощные ростки и только выжидала момента для решительного удара. Найгель как заведенный мотает своей огромной головой. Но Вассерману недосуг взглянуть на него. Вассерман почему-то убежден, что существует прямая связь между сопротивлением Найгеля и прелестной ямочкой на правой коленке младенца. Найгель колотит рукой по столу и кричит, что хватит с него этого издевательского рассказа, порождения больного, извращенного воображения! Но Вассерман не сдается. Он гневается. Он заявляет, что никто не вправе затыкать ему рот, и вообще, художник не может творить в таких условиях — когда каждую минуту вмешиваются в его повествование. Впервые он так дерзок с Найгелем, похоже, что он даже угрожает ему. Он машет рукой в сторону Найгеля, и это движение потрясает меня, потому что я точно помню, где и когда уже видел эту сцену: более двадцати лет назад, на кухне моих родителей в Бет-Мазмиле. Тогда немец тоже попытался вмешаться, а дедушка ухватил свою пулькеле, поднял ее высоко над головой и воскликнул на своем старомодном иврите, что не позволит Геррнайгелю вмешиваться в его рассказ, потому что… И немец струсил и решил уступить. Но тогда я еще хотел, чтобы дедушка победил.
— Не прикасайся, не смей прикасаться к этому ребенку! — орет Найгель, и лицо его покрывается красными пятнами.
Вассерман мрачно глядит на него и делается непреклонным и страшным. И чеканит каждое слово:
— Есть вещи, которых вам не сметь кричать мне в уши, герр Найгель! И без вас довольно горька моя жизнь. Этот ребенок будет жить или, не дай Бог, умрет по моему — слышите? — по моему решению! И по воле рассказа. Так свершится и так будет!
Вассерман прекрасно понимает, что выглядит нелепо в своем гневе. Он сам признает, что «имеются такие, которым злость не к лицу». Но на этот раз в этом маленьком сгорбленном старикашке присутствует нечто такое, что заставляет Найгеля умолкнуть. Немец отводит глаза в сторону и смиряется. Покорно ожидает продолжения. Ручка-самописка вздрагивает у него в руке.
…Фрид тяжело дышит. Вот и ответила жизнь на его вызов, который он упрямо бросал ей каждое утро. Подняла перчатку. Невозможно расценить это иначе. Но жизнь выбрала для себя непредвиденное поле битвы: тело ребенка. Решила испытать его страданиями, которых он еще не знал и не предполагал.
Вассерман:
— Ой, Фрид, надо было ожидать, что это может случиться. В тот самый час, как вздумалось тебе прочерчивать линии на земле, вырыл ты себе яму!
Фрид: Не волнуйся за меня. Старый Фрид тоже знает пару приемов.
Найгель — с молодецким задором и явным укором Вассерману:
— Ур-р-ра, Фрид! На войне как на войне!
Господин Маркус: Но хоть и был наш Фрид в эту минуту охвачен воинственным пылом, и можно было даже подумать, что вот-вот встанет на дыбы и заржет, как боевой конь, но тут же сник и загрустил, потому что понял, до чего же ничтожны шансы на победу.
Опять взялся за вычисления (верное средство от новой волны ужаса, который уже окатил его несколько минут назад). Должна обнаружиться какая-нибудь ошибка, ведь не прогерия же это, в самом деле, конечно, нет! Ничего похожего… Так — неизвестно чем вызванное слишком стремительное развитие. Синдром бабочки… Затормозится постепенно и сделается нормальным. Некоторое время Фрид продолжал еще делить и умножать месяцы и годы, тяжко шевеля мясистыми обескровленными губами. Потом записал несколько чисел на бумаге и принялся внимательно разглядывать их. Зуд в области живота усилился, и, сам того не замечая, доктор яростно чесался, как блохастая собака. Только этой дурацкой сыпи ему не хватало!
Дважды и трижды проверил он свои подсчеты и вновь обрушился с откровенной яростью на бумагу. Вся кровь отлила у него от лица, и кожа сделалась иссиня-серой. Последняя крохотная надежда растаяла — смешная надежда, что жизнь все-таки сжалится над ним, хотя бы ради их долгого знакомства. В рассеянности он понюхал свои пальцы. Откуда этот свежий запах розмарина? Он стиснул челюсти и уставился в листок. На нижней строчке, под последней чертой, были выведены две цифры. Две такие знакомые цифры…
Вассерман вздыхает и прекращает «чтение». Взгляд Найгеля буквально прилип к губам рассказчика. Зато Вассерман совершенно забыл о слушателе, глаза его устремлены в пустую тетрадь. На какую-то секунду вспыхивает в них пламень безумной жертвенной любви, как если бы он был диким зверем, охраняющим свое дитя. И хотя он уж точно не походил ни на одно из этих роскошных созданий: ни на льва, ни на тигра, ни на пантеру — в лучшем случае на больного облезлого кролика или отбившуюся от стада пожилую овцу, — это не убавило бешенства в его взгляде и мучительной животной любви в его сердце. В это мгновенье я мог бы наконец беспрепятственно заглянуть в тетрадь и разобрать, что за слово написано там, но не решился. Побоялся узнать нечто еще более страшное. Вассерман мотнул головой, глубоко вздохнул и приготовился продолжать.
— Подождите минутку, герр Вассерман, — взмолился Найгель, — пожалуйста, позвольте мне убедить вас. Ведь невозможно, чтобы…
Но Фрид, в состоянии какого-то отстранения, отказа от дальнейшей борьбы или просто полного отупения от усталости, с холодным пренебрежением прерывает его:
— Все верно: если младенец продолжит развиваться столь стремительным образом, то есть с той же необъяснимой скоростью, он закончит полный жизненный цикл обычного человека ровно за двадцать четыре часа. Да…
Найгель молчит. Горечь и злость переполняют его. Он весь клокочет от бессильного гнева. Но даже сейчас нечто в нем — или некто в нем — заворожено этим простейшим биологическим паролем: «двадцать четыре часа». Он порывается что-то сказать, но тут же умолкает, осознав бессмысленность любых слов. Проходят несколько томительных секунд. Найгель берет себя в руки и успокаивается. Я уже знаю, что мне следует сделать. У меня нет выхода. Несчастный Вассерман. Но и у меня есть рассказ, который тянет меня за собой — пишет меня, — и я обязан идти следом за ним, куда бы он ни завел. Но кто знает? Может, это и есть верный путь — моя единственно правильная дорога.
— Эта твоя повесть… — произносит Найгель печально. — Мне уже трудно решить, что я на самом деле о ней думаю…
Вассерман, с явным облегчением:
— Ты еще согласишься с ней, герр Найгель.
Найгель:
— Жаль… Просто взял и испортил хороший рассказ всеми этими странными идеями. Двадцать четыре часа, в самом деле, — зачем?!