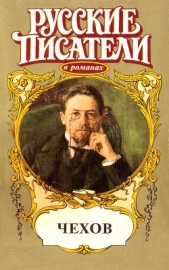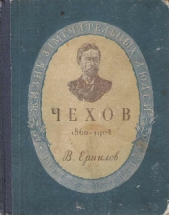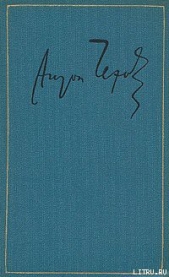Антон Чехов. Роман с евреями

Антон Чехов. Роман с евреями читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стоит ли после этого удивляться тому, что православной Сарре-Анне о лежащем на ней клейме «жидовки» в пьесе Чехова напоминают постоянно и за глаза, и в глаза — в виде шуточки о «жиде крещеном, воре прощеном и коне леченом». Слово «жидовка» легко различается и в постоянном шипении российского уездного серпентария, куда привела ее беззаветная любовь.
Еще раз вспомним слова Чехова о Дуне Эфрос из письма В.Билибину: «Хватит мужества у богатой жидовочки принять православие с его последствиями — ладно, не хватит — и не нужно…»
Сарре Абрамсон хватило мужества, и ее возлюбленный повторяет в пьесе эти слова уже в утвердительной форме: «Анюта замечательная, необыкновенная женщина… Ради меня она переменила веру, бросила отца и мать, ушла от богатства…»
А вот как об этом рассказывает сама «Анюта»-Сарра доктору Львову: «Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает, но прежде… Какая прелесть!.. Я полюбила его с первого взгляда… Он сказал: пойдем… я отрезала от себя все, как, знаете, отрезают гнилые листья ножницами, и пошла…» Несколько иначе звучат эти же воспоминания, когда в ее жизнь вторгается сильная, как смерть, ревность, чьи первые стрелы огненные достигают ее души: «Помнишь, ты пришел и солгал мне, что ты меня любишь… Я поверила и оставила отца, мать, веру и пошла за тобою…»
Итак, Сарра Абрамсон стала еще одним чеховским еврейским персонажем, отказывающимся от богатства, отрезая его от себя «как гнилые листья ножницами». Правда, делает она это не из своих политических убеждений, как Соломон в «Степи», а ради любимого человека, и эта бескорыстная всепоглощающая любовь еврейки поднимает ее над окружающими ее монстрами из русского провинциального «бомонда» на недосягаемую высоту, и в пьесе начинает звучать тихий волнующий мотив «Песни песней Соломоновой».
Глава 5
ЦАРЬ СОЛОМОН
Абрам Абрамович, Исак, Лев Соломонович, Сусанна, Исаак, Сарра Абрамсон, Моисей Моисеич — таковы еврейские имена в произведениях Чехова. Если же речь идет о евреях «в массе», то в ход идут «шмули» и «янкели», и только непонятный человек, сжегший свои деньги, носит имя «Соломон». Если это совпадение, то оно символично: презрение к богатству — один из мотивов книги Екклесиаста, приписываемой Библией царю Соломону. Под впечатлением этой книги и образа ее создателя Чехов находился всю жизнь. Его духовное родство с этим легендарным библейским и кораническим персонажем не осталось незамеченным современниками. Об этом, в частности, писал А.Амфитеатров, называвший Чехова «русским Екклесиастом».
В уже упоминавшемся письме Суворину от 15 ноября 1888 г. после предложения написать трагедию «Олоферн» Чехов вроде бы в шутку писал о судьбе Соломона как о другой возможной теме их совместного творчества: «Сюжетов много. Можно «Соломона» написать…» Этот разговор имел свое продолжение, и 4 мая 1889 г. он отмечает в письме Суворину: «Наконец-то Вы обратили внимание на Соломона. Когда я говорил Вам о нем, Вы всякий раз как-то равнодушно поддакивали. По моему мнению, «Экклезиаст» подал мысль Гете написать «Фауста».
Об этих разговорах Суворин вспоминал уже после смерти Чехова: «Он начинал драму, где главным лицом является Соломон «Паралипоменона» и «Песни Песней». Наличие у Чехова неосуществленного замысла написать драму о Соломоне литературоведы «серебряного века» считали неопровержимым фактом, и опубликованный в 1914 г. сохранившийся в его бумагах монолог Соломона стал этому убедительным подтверждением. Связь этого отрывка с «Паралипоменоном» проявляется лишь во времени, к которому может быть отнесен монолог, — к моменту завершения строительства Храма, а по своему настроению слова и мысли чеховского Соломона являются екклесиастическими:
«Соломон (один). О, как темна жизнь! Никакая ночь во дни детства не ужасала меня так своим мраком, как мое непостигаемое бытие. Боже мой, отцу Давиду ты дал лишь дар слагать в одно слова и звуки, петь и хвалить тебя на струнах, сладко плакать, исторгать слезы из чужих глаз и улыбаться красоте, но мне же зачем дал еще томящийся дух и не спящую, голодную мысль?
Как насекомое, что родилось из праха, прячусь я во тьме и с отчаянием, со страхом, весь дрожа и холодея, вижу и слышу во всем непостижимую тайну.
К чему это утро? К чему из-за Храма выходит Солнце и золотит пальму? К чему красота жен? И куда торопится эта птица, какой смысл в ее полете, если она сама, ее птенцы и то место, куда она спешит, подобно мне должны стать прахом?
О, лучше бы я и не родился или был камнем, которому Бог не дал ни глаз, ни мыслей. Чтобы утомить к ночи тело, вчера весь день, как простой работник, таскал я к Храму мрамор; но вот ночь пришла, а я не сплю… Пойду опять и лягу.
Форзес говорил мне, что если вообразить бегущее стадо овец и неотступно думать о нем, то мысль смешается и уснет. Я это сделаю… (Уходит)».
Этим же настроением отмечена и его дважды повторяющаяся запись в записных книжках: «Соломон сделал большую ошибку, что попросил мудрости». Вероятно, слова Екклесиаста:
— Ибо во многой мудрости много печали;
И кто умножает познания, умножает скорбь, —
должны были стать ключом к духовной драме царя Соломона в ненаписанной пьесе Чехова.
Долгое время тема «Чехов и царь Соломон» оставалась под запретом в бывшей советской империи, и только в последнем академическом собрании его сочинений в набранных мелким шрифтом комментариях получила некоторое отражение творческая перекличка этих двух гениев человечества, разделенных почти тремя тысячелетиями. Уже в постсоветский период взаимодействие Екклесиаста с чеховскими творениями было исследовано более подробно, и с выводом этих освободившихся от презренной цензуры литературоведов о том, что мотивы и образы Екклесиаста и философия царя Соломона занимают центральное место в художественной концепции Чехова, нельзя не согласиться. Прав был Амфитеатров, сказавший: «Кто в европейской литературе мог бы лучше Чехова истолковать сложную и глубокую душу великого иудейского царя-пессимиста?» И действительно, дух царя Соломона с его стремлением все познать и испытать витал не только над страницами чеховских рассказов, но и над личной жизнью писателя, не пренебрегавшего любыми утехами бытия. Об этом свидетельствуют письма Чехова с упоминаниями, а нередко и описаниями кутежей в ресторанах, посещений борделей, близости с женщинами, в том числе весьма экзотическими, всегдашней готовностью к странствиям по нашей грешной Земле.
Вспомним, как эта его черта поразила помешанного на сексуальных проблемах В.Розанова: «…Антон Павлович раз приехал в Рим. С ним были друзья, литераторы. Едва передохнув, они шумно поднялись, чтобы ехать осматривать Колизей, и вообще что там есть. А Антон Павлович отказался: он расспросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы он не приезжал, он раньше всего ехал в такой дом».
Чисто екклесиастские черты и настроения Чехова сохранил для нас и А.Суворин: «И в Петербурге, и в Москве он любил до странности посещать кладбища, читать надписи на памятниках или молча ходить среди могил».
И еще: «С ним мы дважды ездили за границу. В оба раза мы видели Италию. Его мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы, но тотчас по приезде в Рим ему захотелось за город, полежать на зеленой траве. Венеция захватывала его своею оригинальностью, но больше всего жизнью, серенадами, а не дворцом дожей и проч.
В Помпее он скучно ходил по открытому городу — оно и действительно скучно, но сей же час с удовольствием поехал верхом на Везувий, по очень трудной дороге, и все хотел подойти поближе к кратеру. Кладбища за границей его везде интересовали, — кладбища и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков».
Из этого сам Суворин сделал вывод, что «это как бы определяло два свойства его таланта — грустное и комическое, печаль и юмор, слезы и смех и над окружающим, и над самим собою!» Надо полагать, что в действительности все было гораздо глубже: цирк и кладбище были для Чехова моделью человеческого мира, а партия клоуна в цирковом представлении символизировала для него судьбу и одиночество человека в этом безразличном или враждебном ему мире.