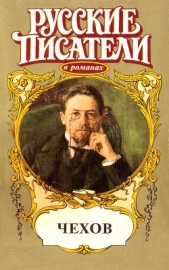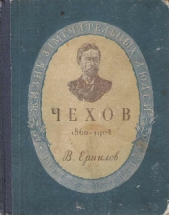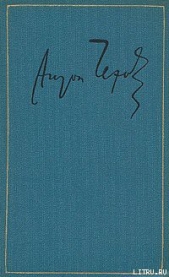Антон Чехов. Роман с евреями

Антон Чехов. Роман с евреями читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летом 1903 года во время пребывания Чехова в Москве он показался проф. Остроумову, в клинике которого лежал в 1897 году. И Остроумов, который, как известно было, не одобрял ялтинского климата зимой, высказался за переезд его на зимние месяцы куда-нибудь в окрестности Москвы. Только строго запретил всякие заграничные поездки: «так как ты калека». Когда по возвращении в Ялту Чехов мне об этом рассказал, я всячески запротестовал, и он пишет Ольге Леонардовне: «Вчера А. долго говорил со мной о моей болезни и весьма неодобрительно отзывался об Остроумове, который позволил мне жить зимой в Москве. Говорил, что Остроумов был выпивши». Последние слова Антон Павлович прибавил от себя, вероятно, для крепости, потому что, я уверен, сам понимал нецелесообразность этого совета, не только и не столько с точки зрения климатической, сколько принимая во внимание условия его московской жизни. Он писал тогда Вересаеву: «Не знаю, кого мне теперь слушать, что делать». Осенью 1903 года он не перестает лихорадить, один плеврит следует за другим, трудно поддающиеся лечению расстройства кишечника. Он уже не скрывает своего плохого самочувствия. Впервые не избегает говорить о своей работе, как трудно ему дописывать и переписывать пьесу «Вишневый сад». Он мог это делать только урывками. А Художественный театр, увлеченный своими задачами, связанный планом, все торопит скорейшей присылкой пьесы. И Ольга Леонардовна почти в каждом письме пишет о том же. Он ей отвечает: «За пьесу не сердись; медленно переписываю, потому что не могу писать скорее», и в другой раз: «Ты делаешь мне выговор за то, что у меня не готова еще пьеса. Моя лень тут ни причем. Если бы я был в силах, то написал бы не одну, а 25 пьес».
И в отношениях Художественного театра к Чехову менее всего можно, конечно, допустить пренебрежительность, недостаточно внимательное отношение к его здоровью. Все участники труппы, начиная с главных персонажей, любовно относились к Чехову, который по их настоянию стал и пайщиком товарищества Художественного театра и которого они считали своим близким человеком. В надписи на фотографии, подаренной мне в 1922 году в Берлине К. С. Станиславским, имеются, между прочим, и следующие слова: «Мы вместе любили Чехова, радовались ему и оплакивали его», и это, несомненно, очень искренние слова. Но увлеченные созданием нового, непохожего на другие, театра, целиком отдавшиеся этой задаче, горевшие ею, они, считая новую пьесу чрезвычайно важною частью их намеченного плана, не замечали остального.
Повторяю, то, что случилось, при сложившихся обстоятельствах стало неизбежным, фатальным. Но, когда в одном из писем Чехова к жене мы читаем: «Реши ты (дело идет о его поездке в Москву), ибо ты человек занятой, рабочий, а я болтаюсь на этом свете, как фитюлька», то мы, читатели и почитатели Чехова, согласиться с этим никак не можем. И когда в другом письме, указывая на то, что во вновь снятой в Москве квартире на третьем этаже лестница высокая и лифта нету, и что ему трудно будет с его одышкой подниматься, он кончает словами: «Ну да ничего, как-нибудь взберусь», то я, врач, не могу не думать о том, какое роковое влияние эта лестница должна была оказать на его и так уже ослабевшее сердце.
В конце 1903 года он везет, наконец, законченный и переписанный «Вишневый сад» в Москву. Здесь по 3–4 часа в день он, волнуясь, принимает живое участие во всех репетициях пьесы. Это как раз разгар сезона, и по вечерам он нередко опять в театре на спектаклях. Все же свободное от театра время толкутся посетители; совершаются прогулки по Москве; был и в бане… 17 января, в день его рождения и именин, премьера «Вишневого сада» и чествование Чехова на открытой сцене после третьего акта. «А он, — пишет в своих воспоминаниях К. С. Станиславский, — мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, не мог унять кашля. <…> Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел» и прибавляет: «от юбилея отдавало похоронами». И Ольга Леонардовна в 1929 году, вспоминая этот день, пишет («Прожектор», № 28): «Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не было поры чистой радости в этот вечер 17 января; это верно».
В начале февраля Ольга Леонардовна везет его в Царицыно под Москвой осматривать усадьбу. На обратном пути опоздали к поезду и верст 30 проехали на лошадях в довольно сильный мороз. И Ольга Леонардовна, говоря об этой поездке в предисловии к переписке, отмечает: «Антон Павлович наслаждался. Точно судьба решила его побаловать и дала ему в последний год жизни все те радости, которыми он дорожил: и Москву, и зиму, и постановку «Вишневого сада», и людей, которых он любил». После вышеприведенных замечаний о чествовании эти слова являются несколько неожиданными.
В середине февраля Антон Павлович вернулся в Ялту в значительно худшем состоянии, чем уехал, но оживленно рассказывал про чествование, речи, показывал многочисленные поднесенные ему в этот вечер подарки и комически жаловался, что кто-то, должно быть, нарочно, чтобы досадить ему, распустил слух о том, что он любитель древностей, а он их терпеть не может. Среди подношений действительно были модель древнего русского городка, старинный ларчик и, между прочим, чернильница XVIII в. На мое замечание, что все это красиво и что, в частности, чернильница мне очень нравится, он ответил: «Да что вы, ведь теперь песочком не посыпают, есть пропускная бумага, и гусиных перьев тоже нет». Потом с милой улыбкой прибавил: «Ну вот, если очень нравится, я распоряжусь, чтобы в наказание вам эту чернильницу после моей смерти и вручили». Как он ни был плох, я тогда все-таки не мог предполагать, что чернильница уже через несколько месяцев действительно перейдет ко мне. Он пробыл в Ялте до конца апреля; здоровье, если и стало чуть лучше, то во всяком случае внушало мало надежды. Временами он оживлялся, строил всякие планы на будущее, мечтал засесть за работу, говоря, что в голове многое уже созрело. Собирался, если поправится как следует, с наступлением тепла поехать на войну, из-за которой очень волновался, и поехать именно врачом, «так как врач может больше видеть». Но чаще бывал молчалив, сосредоточенно задумчив, и он, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье, говорил, что устал, что хочет по-настоящему отдохнуть, набраться сил. Все чаще заставал я его сидящим в кресле или в нише на диване без газеты, без книги в руках. О чем он думал? Я уверен, что не только о литературе и житейском.
В конце апреля в довольно скверном общем состоянии он, как и было условлено, уехал в Москву, куда должен был вернуться из Петербурга и Художественный театр. В дороге простудился, получил резкое обострение, плеврит с необычно высокой для него температурой, и немедленно по приезде слег и не вставал до самой поездки в Баденвейлер, куда направил пользовавший его в это время в Москве д-р Таубе, врач семьи Книппер. Ни один из знавших и лечивших его раньше врачей не был привлечен, ни д-р Щуровский, ни проф. Остроумов. Последний ведь еще раньше решительно высказался против всяких заграничных поездок.
Перед отъездом Антон Павлович уговаривал меня в начале моего отпуска в конце мая заехать в Москву, чтобы, шутя прибавил он, «спасти его от немцев». Но я в тот год не мог оставить Ялту раньше середины июня, да и все равно считал свою поездку бесполезной. В последнем полученном мною от него из Москвы письме, от 26 мая, он пишет, что, как приехал в Москву, так ни разу еще не одевался, что 3 июня уезжает за границу, а в августе будет в Ялте. «Теперь лежу на диване и по целым дням от нечего делать все браню Остроумова и Щуровского. Большое удовольствие». Ольга Леонардовна впоследствии с возмущением мне рассказывала, как в Берлине в Савой-отель к Чехову приехал приглашенный известный клиницист проф. Эвальд. Внимательно исследовав больного, он развел руками и, ничего не сказав, вышел. Это, конечно, было жестоко, но развел он руками наверно в справедливом недоумении, зачем и куда такого больного везут.
Когда 3 июля в пасмурное дождливое утро на Рижском взморье мне подали телеграмму с извещением о смерти Антона Павловича, я не о том подумал, что Россия потеряла любимого своего писателя в самом расцвете его творческого дара, а остро и болезненно почувствовал, что ушел из жизни человек большой душевной красоты и исключительного обаяния. Чуткий к чужой беде и чужому горю и всегда всем старавшийся помочь, он сам кротко, безропотно и молча переносил свои недуги и печали. И больно угнетало сознание, что эта преждевременная смерть не была неизбежной, а в значительной мере явилась следствием неблагоприятно сложившихся