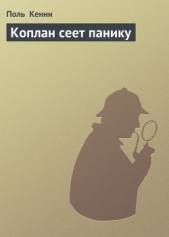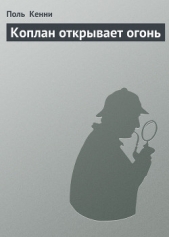Кружевница. Романы

Кружевница. Романы читать книгу онлайн
«"Ирреволюция" - история знаменитых "студенческих бунтов" 1968 г., которая под пером Лене превращается в сюрреалистическое повествование о порвавшейся "дней связующей нити".
"Кружевница" - самый прославленный из романов Лене. Самая знаменитая франкоязычная книга "поколения отчуждения", утратившего способность отличать подлинное от ложного, истину от фальши.
"Нежные кузины" - холодновато-изящная "легенда" о первой юношеской любви, воспринятой даже не как "конец невинности", но - как "конец эпохи".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Они поддались умиротворению. Они больше не торопятся, чтобы не опоздать к отходу шестичасового. В то время как для остальных сотанвильская жизнь как была, так и остается всего лишь дырой меж двух расписаний — расписания занятий и расписания поездов, — эти вдруг начинают задерживаться в городе. Они уже не спешат. Беседуют в магазинах. Покупают. К ним обращаются по имени, это им приятно; это внушает им доверие к себе, к жизни — их ведь называют по имени, их ведь узнают. Они гуляют; точнее, ходят — за покупками, часами бродят по городу за покупками. Они не убивают, как мы, время на улицах или в кафе в ожидании, пока подойдет час поезда, занятий, еды, сна. Они своего времени не убивают. Они его проводят. И к декабрю начинают подыскивать меблированную квартирку, чтобы сменить на нее свой гостиничный номер с оплатой за месяц, за сутки, за ночь, потому что квартира комфортабельней. И главное — в ней чувствуешь себя «дома».
Случается, они даже вступают в брак; вступают в брак с другим преподавателем. Не знаю, случайность ли это или своего рода закономерность, своего рода детерминизм, присущий профессии преподавателя или климату Сотанвиля, но с тех пор как я в этом техникуме — не так уж я тут долго, — я был свидетелем трех таких браков; в среднем — один на месяц!
Когда я задумываюсь об этом, мне кажется, я понимаю, в чем тут дело: это своего рода обращение, акт веры; и раскаяния. Раз уж приходится жить этой жизнью, они решают ее избрать сами, добровольно, как избирают супруга, который ее воплощает. Соблюдаешь обряды, предписанные религией, как было уже замечено, и начинаешь веровать! В конце концов, это, должно быть, не так уж трудно; во всяком случае, не так трудно, не так сложно, как добиться перевода.
Они будут хорошими служащими, эти двое, надежными, скромными. Их теперь не часто увидишь в «Глобусе» или «Благовесте» (инспектор техникума не одобряет этих посещений; он сделал нам соответствующее замечание, вклинив его между двумя другими замечаниями). Итак, они отказываются от мысли о переводе и просят предоставить им трехкомнатную квартиру в стандартном доме. Они имеют на это право. Они теперь уже не одиночки; они молодожены; на молодоженов приятно смотреть, они вызывают симпатию; вдобавок молодожены-преподаватели — это занятно и достойно уважения. Так что они просят квартиру в стандартном доме, поближе к техникуму, поскольку зимние утра в Сотанвиле холодные, колеса машины скользят как на катке, приходится пересекать слишком длинный двор, спотыкаясь, зажав портфель под мышкой, руки немеют, ветер обжигает уши. Директор спешит поддержать просьбу. По-отечески. Лично.
Браки между преподавателями сопровождаются своего рода церемонией; именуется это «поднять бокал».
«Поднять бокал» — не пустяк. Подготовка к этому начинается за несколько дней. Собирают деньги на игристое, печенье и подарок; поручается это ветерану, одному из «посвященных»: ему же предстоит обратиться с речью к новобрачным, к новым членам сотанвильского общества.
Наступает великий день; председательствует на церемонии сам директор; если же вступающие в брак не пользуются особой благосклонностью начальства, он поручает представлять себя инспектору. Потом все, сначала сотанвильцы, следом парижане, рассыпаются в улыбках и поздравлениях; новобрачным вручают их гладильную доску; чокаются игристым, обмениваются комплиментами, рассказывают анекдоты; возвращаются домой или в номер гостиницы — с пенящимся сердцем.
Когда во вторник утром я выхожу из поезда перед немотствующим вокзальным фасадом из бурого кирпича, меня всякий раз на миг охватывает ощущение странности и уныния. Я — здесь? Делаю первые неуверенные шаги по скользкому бетону, направляясь к подземному переходу; но запах мочи кладет конец моим сомнениям, и, когда я прохожу через контроль, мои ноздри и легкие уже смирились.
У выхода из тоннеля старается изо всех сил не развалиться на части дряхлый «фиат-500», купленный мной на этот случай, то есть для того, чтобы преодолеть несколько километров, отделяющих вокзал от техникума. У меня никогда нет уверенности в том, что машина сдвинется с места, но она сдвигается, кашляя и рыгая в зимнем сумраке.
Ощущение странности, чуждости — самое страшное. Это чудовище, поджидающее меня за каждым углом. Я словно внезапно пробуждаюсь, но пробуждаюсь во сне. Иногда все кругом полое, будто декорации, плохие декорации. Иногда все вокруг куда-то отступает, так что начинает кружиться голова, но перспектива лишена подлинной глубины, как на средневековых заставках; или, напротив, вещи надвигаются на меня, толкают, корчась в гримасе. Губы улицы сжимаются, чтобы выплюнуть меня, точно косточку.
Я говорю в классе, и мой голос возвращается ко мне, будто эхо, далекое, странное. Я умолкаю, потому что говорить мучительно. Я сам не знаю, что говорю; это какое-то роение слов, треск подкрылий. Я вынужден умолкнуть. И мои ученики удивленно смотрят на меня; в глазах у них отблеск моей собственной панической растерянности. Что они услышали?
Вечером, возвращаясь в гостиницу, я иду по Лилльской улице, которую расширяют и допуск на которую «резервирован только для ее обитателей и их клиентуры». Поскольку гостиница стоит почти на углу Лилльской улицы и улицы Восьмого Октября, я принадлежу к вышеупомянутой клиентуре: это своего рода право жительства, некая поблажка, которой я пользуюсь; на этой улице мне неплохо. Здесь есть магазины; каждую неделю я проверяю витрины; иногда они меняются. Когда какой-нибудь предмет залеживается, я, бывает, покупаю его, чтобы стереть с витрины, чтобы она побыстрее переменилась, потому что этот предмет начинает казаться мне трупом, костенеющим под стеклом, а я очень боюсь трупов.
Мне теперь еще более одиноко. Друзей у меня нет. По вечерам, в ресторане гостиницы, я вместо разговора прислушиваюсь к собственному жеванию. Время от времени официанты подходят к моему столику, надвигаясь из глубин огромного зала, еще пустого в этот час. Они что-то стряхивают со скатерти, или наполняют мой бокал, или меняют тарелки, если там хлебные крошки; потом удаляются, скользя по большим черным и белым плиткам, подобно шахматным фигурам. В их предупредительности я нахожу все-таки некоторое разнообразие после моих полуденных трапез; но порционные блюда дважды в день мне не по карману, так что предупредительность я приберегаю на вечер. Я пользуюсь ею; разыгрываю важную персону; вознаграждаю себя за все те случаи, когда мне намекают, что я лишний. Спрашиваешь в магазине, чтобы убить время, сколько стоит телевизор? Ты, любезный, тут лишний, не про тебя писано. Мне отвечают сквозь зубы. Ищешь в базарный день место, чтобы поставить машину на главной площади и поглазеть вокруг; изощряешься, совершаешь буквально чудеса, переключая скорости и выжимая сцепления, которые давно уже не в ладу друг с другом, вперед — отрыжка, назад — отрыжка; тем временем какой-то тип уже успел перехватить место, мерзавец! И тут ты лишний, любезный, лишний! Выражаясь высокопарно, я сказал бы, что это экзистенциальная тоска.
Так что в большом зале гостиничного ресторана я разыгрываю из себя набоба; поскольку я тут единственный, мне не приходится опасаться, что я лишний; к тому же четыре-пять официантов, суетясь вокруг меня, действуют успокаивающе, подтверждают, что я не ошибся помещением, что я действительно в ресторане. Обои попахивают сыростью, как и в комнатах, но обслуживание первоклассное, приборы серебряные и пища приемлемая; а главное — вокруг меня эти бедняги; я люблю бедняг: вы, друзья, лишние, как и я! Кажется, что они дрожат от холода в своих белых перештопанных куртках и только ждут моего знака, пожелания, приказа, который позволит им немного согреться.
У меня нет друзей, даже в техникуме; там есть, конечно, такие же, как я, парижане, которые еженедельно ездят домой, ухитряясь исправлять в поезде, на коленях, письменные работы; самые ловкие приноровились даже отрывать руку от тетради на стрелках. Но мы, хоть и болтаем, чтобы не быть в полном одиночестве, недолюбливаем друг друга. Каждый видит в собеседнике свое собственное отражение. А преподаватели, живущие в городе, смотрят на нас, как на своего рода временно исполняющих обязанности. Или вовсе не смотрят. Преподавателями в полном смысле слова они считают только себя, поскольку во внеучебное время руководят местными секциями профсоюза или организуют культурные мероприятия для учащихся. Я не говорю, что они располагают какими-либо реальными привилегиями, но они всегда на месте, а тот, кто отсутствует, как говорится, всегда отчасти виноват. К тому же следует признать, что вышеупомянутые отсутствующие не проявляют особой активности и не гонятся за ответственными поручениями, которые отняли бы у них дополнительное время; парижане и сотанвильцы различаются между собой не просто по месту жительства; это вопрос жизненной позиции, вопрос глобального отношения личности к деятельности работника просвещения со всеми вытекающими отсюда последствиями: выбрать Сотанвиль — значит выбрать техникум, выбрать своих коллег, столовую, ботинки на меху, клетчатые носовые платки.