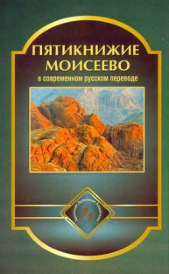Двадцатый век. Изгнанники

Двадцатый век. Изгнанники читать книгу онлайн
Триптих Анжела Вагенштайна «Пятикнижие Исааково», «Вдали от Толедо», «Прощай, Шанхай!» продолжает серию «Новый болгарский роман», в рамках которой в 2012 году уже вышли две книги. А. Вагенштайн создал эпическое повествование, сопоставимое с романами Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Сквозная тема триптиха — судьба человека в пространстве XX столетия со всеми потрясениями, страданиями и потерями, которые оно принесло. Автор — практически ровесник века — сумел, тем не менее, сохранить в себе и передать своим героям веру, надежду и любовь.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Музыкантов из лагерного оркестра естественно связывало чувство солидарности, но кроме них, во всем лагере был один-единственный человек, к которому Теодор испытывал что-то вроде доверия, дружеского расположения и даже признательности. Этим человеком был Шломо Финкельштейн. Толстый и плешивый коротышка, почти карлик, он был родом из далекой Галиции и сидел за мелкое жульничество: ему случалось запускать руку в чужой карман, приторговывать контрабандными сигаретами и частенько забредать в универсальные магазины, где он забывал заплатить за товар, каким-то образом оказавшийся за подкладкой его слишком длинного пальто. Шломо рассказывал еврейские анекдоты с колоритным акцентом, что не требовало от него особого артистизма: он всегда так говорил. Заключенные часто над ним подшучивали и насмехались, но он не обижался, а смеялся вместе со всеми и над своим ростом, и над речью. Как ни парадоксально, именно полуграмотный мелкотравчатый махинатор Шломо Финкельштейн стал, благодаря своему простодушию и готовности оказывать всяческие услуги, наперсником аристократического скрипача. Он помогал Вайсбергу отмывать сальный бачок, подметать спальные помещения и перетаскивать непосильные для него тридцатикилограммовые мешки с картошкой с грузовика на кухню. Обычно заключенные ненавидят тех, кто в фаворе у начальства, и наоборот, но Шломо благоволили все. Он был чем-то вроде всеобщей отдушины, королевского шута, которому заранее все прощалось.
Дни тянулись монотонной чередой, складываясь в месяцы, а отсутствие вестей от Элизабет делало их особенно тягостными. В Дахау, в отличие от обычных тюрем с установленным в законном порядке режимом, переписка была запрещена. Ничто не оживляло ненавистную рутину: час на утреннюю и час на вечернюю перекличку да все та же, будь она трижды проклята, маленькая кондитерская, да доведенная до совершенства система ухищрений, цель которых — сделаться невидимкой для Ханзи Штейнбреннера и избежать таким образом очередного удара палкой по спине.
Вот только флейтисту Симону Циннеру — прекрасному музыканту, но вспыльчивому человеку — этот номер не удался. В прошлом его коронными произведениями были опусы Моцарта для флейты и фортепьяно, которые принесли ему известность в изысканных салонах. Этот прекрасный музыкант взорвался, когда охранник принялся молотить палкой по спине шахтера в острой фазе силикоза, едва державшегося на ногах. Бросив флейту, он вырвал у Ханзи его излюбленное орудие и что было сил обрушил на него самого. От неожиданности тот остолбенел и сначала даже не понял, что произошло. Но быстро пришел в себя и нашел способ защитить свое достоинство. Да еще какой способ!
…Седьмая штрафная рота оставалась в строю на вытоптанном плацу без ужина и воды до полуночи, а ровно в полночь Ханзи Штейнбреннер все той же палкой в ритме танго, которое оркестр играл уже пятый час без передышки, превратил пальцы флейтиста Симона Циннера в кровавую кашу.
Теодора Вайсберга вырвало, он потерял сознание.
В себя его привел все тот же Шломо, дотащивший бесчувственного скрипача до его нар в бараке. После этого Вайсберг долго не мог избавиться от чувства вины — ведь он играл, когда скотина Ханзи калечил его коллегу.
И вот однажды утром в начале июля, когда оркестр провожал заключенных на работу, кто-то похлопал Теодора Вайсберга по плечу. Он вздрогнул и обернулся, скрипка взвизгнула писклявым фальцетом. За спиной у него стоял Ханзи, который необычайно дружелюбным тоном рыкнул:
— Ты Вайсберг? Чего перепугался, будто тебя режут? Чеши в канцелярию комендатуры, бегом! А остальным — продолжать! Да пободрее, тут вам не похороны! Ну-ка, засранцы, ать-два левой… левой… левой! Ать-два левой… левой… левой!.. In einer kleinen Konditorei… Da saßen wir zwei… Und traümten vom Glück.
Напевая, он дирижировал своей дубинкой, пока Теодор, недоумевая и испытывая смутные опасения, шел с плаца в комендатуру лагеря Дахау.
В просторной, неярко освещенной гостиной, звучал рояль. Звучал пианиссимо — Элизабет играла для себя. Солидная мебель, пушистые ковры, высокие китайские вазы, хрусталь, серебряные подсвечники — все в этом доме свидетельствовало о богатстве, нажитом не за один день. В педантично, до мелочей продуманной обстановке, в царившем здесь подчеркнуто безупречном порядке проскальзывало нечто неестественное, даже, может быть, мещанское: без единой морщинки на скатерти, упавшего на ковер журнала или раскрытой книги на диване, пепельницы, которую забыли вытряхнуть, или несимметрично раздвинутых портьер.
Она не слышала, как за ее спиной на пороге гостиной появился Теодор Вайсберг. В иных обстоятельствах его вид был бы скорее комичен: многодневная щетина, коротко остриженная голова, тот же концертный смокинг, в котором он был арестован, но уже потерявший форму и половину пуговиц. Один рукав был наполовину оторван — кто знает в каком полицейском фургоне или этапной камере это случилось. Этого человека можно было бы принять за богатого бонвивана, завсегдатая ночных клубов, ударившегося в запой, но решившего, в конце концов, вернуться к семейному очагу; на заключенного, только что освободившегося из Дахау, он вовсе не походил.
Прислонившись к сводчатой притолоке, Теодор молча слушал фортепьяно.
Смутное чувство, что она не одна, заставило Элизабет прервать игру и оглянуться.
— Боже мой! — сдавленно воскликнула она и, вскочив из-за инструмента, бросилась к мужу.
Деликатным жестом он остановил ее:
— Не прикасайся ко мне, милая. Первым делом надо сунуть всю эту одежду в топку парового отопления, а меня отправить в ванную. Если бы ты знала, из какой преисподней я возвращаюсь!
Элизабет нежно провела ладонью по его заросшей щеке.
— Милый мой, бедный мой!
Теодор молча ответил жестом на жест — но тыльной стороной руки, чуть более чистой.
И вот уже прежний виртуоз Теодор Вайсберг — кто бы узнал его всего несколько часов назад? — принявший ванну и чисто выбритый, укутанный в пушистый банный халат, в ковровых шлепанцах на босу ногу, наполняет шампанским два хрустальных бокала.
— За твое здоровье, дорогая. За тебя! За то, что ты выстояла. И за то, что все так неожиданно и счастливо завершилось.
Она взглянула на мужа с грустным удивлением, чуть пригубила свой бокал и вновь подняла на него большие зеленые глаза.
— Вот как ты, значит, думаешь? Так слушай же, Теодор, слушай, мой милый глупыш. Слушай меня внимательно. Чтобы это произошло, мне пришлось долго стучаться в разные двери, и единственный вывод, который я из всего этого извлекла, это то, что никакого счастливого конца не было. Его просто не могло быть! Наоборот — все только начинается. И нам надо уносить отсюда ноги. Как можно скорее, пока не поздно!
Теодор рассмеялся:
— Ах ты, мой храбрый оловянный солдатик! Покинуть Германию, нашу Германию, из-за какой-то банды случайно дорвавшихся до власти проходимцев, которых завтра вытолкают взашей? Да ни за что на свете!
В отчаянии, Элизабет отпрянула от него, потом вскочила на ноги, нервно прошлась взад-вперед по гостиной и снова опустилась в кресло. Ломая спички, закурила и только потом заговорила снова:
— Господи, ты так ничего и не понял! То, что сейчас происходит, вовсе не пьяные идеи-фикс десятка мюнхенских забулдыг: это всерьез и надолго, Теодор. Это глубоко продуманная государственная политика.
— Я скрипач, а не политик.
— Им наплевать, что ты скрипач. Разве ты еще не убедился, что им действительно на это наплевать?
— А мне наплевать на них!.. Кроме того, у тебя же контракты? Ведь наступит день, когда выяснится, что мои коллеги задержаны по недоразумению, и их освободят. Тогда надо будет восстанавливать оркестр… Оставить его на произвол судьбы, столько лет посвятив его созданию? А коллеги, а друзья, а наш дом? Неужели и это все бросить? И кинуться… куда?
Элизабет глубоко затянулась, резким взмахом руки разогнала дым и сказала: