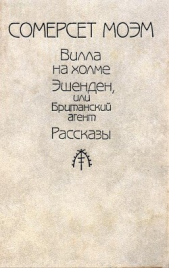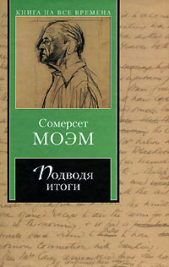Избранное
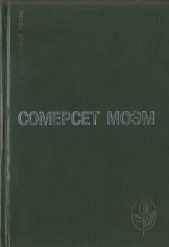
Избранное читать книгу онлайн
В том избранной прозы выдающегося английского писателя, классика XX века Уильяма Сомерсета Моэма вошли его роман «Узорный покров», рассказы разных лет и книга эссе о писательском творчестве «Подводя итоги».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не думаю чтобы в прошедшие века люди отличались от нынешних, но своим современникам они, по всей вероятности, казались более цельными, иначе писатели не стали бы изображать их такими. «Всяк в своем нраве» [89] — это казалось вполне естественным. Скупец был только скуп, щеголь — щеголеват, обжора — обжорлив. Никому не приходило в голову, что скупец может быть щеголеват и обжорлив, — а между тем мы сплошь и рядом встречаем таких людей, и уж подавно, что он может быть честным человеком, бескорыстно служить обществу и искренне увлекаться искусством. Когда писатели начали изображать пестроту, которую они обнаруживали в самих себе или в других, их обвинили в клевете на человечество. Насколько я знаю, первым, кто сознательно пошел на это, был Стендаль. Роман «Красное и черное» был встречен современной критикой в штыки. Даже Сент-Бёв [90] отнесся к нему весьма строго, хотя ему достаточно было заглянуть в собственное сердце, чтобы увидеть, сколь противоречивые свойства уживаются в человеке. Жюльен Сорель — один из самых интересных характеров во всей литературе. На мой взгляд, Стендалю не удалось сделать его вполне правдоподобным, но это, вероятно, вызвано причинами, о которых речь пойдет в своем месте. На протяжении первых трех четвертей романа он вполне достоверен. Иногда он внушает отвращение, иногда сочувствие; но во всем этом есть внутренняя связность, так что, даже содрогаясь, приемлешь.
Но у Стендаля не скоро нашлись последователи. Бальзак при всей своей гениальности лепил свои характеры по старым образцам. Он вдохнул в них собственную неимоверную жизненность, поэтому их принимаешь как живых людей; однако на самом деле это — «нравы», такие же, как в старинных комедиях. Персонажи его незабываемы, но каждый из них дан с точки зрения своей доминирующей страсти, которая поражала тех, с кем он соприкасался. Вероятно, людям свойственно воспринимать своих ближних так, словно они являют собой нечто однородное. Конечно же, куда проще сразу составить себе мнение о человеке и, чтобы не думать долго, наклеить на него ярлык «молодчина» или «мерзавец». Не очень-то приятно узнать, что спаситель отечества — скряга или что поэт, открывший нам новые горизонты, — сноб. Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам самим. Мы хотим, чтобы они были такими-то и такими-то — для нас; и такими они для нас и будут; остальное, что в них есть, нам не нужно, и мы его игнорируем.
Этими причинами, пожалуй, и можно объяснить, почему так холодно принимаются попытки изобразить человека во всем многообразии его, казалось бы, несовместимых качеств и почему люди в испуге отворачиваются, когда простосердечные биографы обнародуют правду о великих мира сего. Печально думать о том, что человек, написавший квинтет в «Мейстерзингерах», [91] был не честен в денежных делах и вероломен по отношению к тем, кто оказывал ему помощь. Но возможно, что, не будь у него больших недостатков, у него не было бы и больших достоинств. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей; по-моему, лучше, чтобы мы о них знали: тогда, помня, что мы не менее их порочны, мы все же можем верить, что и добродетели их для нас достижимы.
Медицинское образование не только помогло мне вникнуть в человеческую природу — оно дало мне элементарные научные знания и понятие о научном методе. До того я занимался только искусством и литературой. Новые мои познания были невелики, в соответствии с тогдашней, более чем скромной программой, но все же передо мною открылась дорога, ведущая в область, совершенно для меня неведомую. Я усвоил кой-какие принципы. Научный мир, в который я заглянул одним глазком, был насквозь материалистичен, и, поскольку концепции его соответствовали моим склонностям, я жадно за них ухватился. «Ибо люди, — как заметил Поп, — что бы они ни говорили, одобряют чужое мнение, лишь если оно совпадает с их собственным». Мне приятно было узнать, что сознание человека (возникшего в ходе естественно-исторического развития) есть функция мозга и, подобно другим частям его тела, подчиняется законам причинности, а законы эти — те же, что управляют движением звезд и атомов. Я ликовал при мысли, что вселенная — не более как огромная машина и каждое событие, в ней происходящее, предопределено каким-то предшествующим событием, так что никакого выбора быть не может. Эти концепции не только питали мой писательский инстинкт — они давали мне отрадное ощущение свободы. С чисто юношеской кровожадностью я приветствовал гипотезу о выживании сильнейшего. Я был очень доволен, узнав, что Земля — всего лишь комочек грязи, который носится в пространстве вокруг второстепенной звезды, мало-помалу остывающей; и что породившая человека эволюция, заставляя его приспособляться к своей среде, со временем лишит его всех приобретенных им свойств, кроме тех, что необходимы для борьбы с усиливающимся холодом; а в конце концов на всей планете — обледеневшем угольке — не останется ни признака жизни. Я поверил, что мы — жалкие марионетки во власти беспощадной судьбы; что, подчиняясь неумолимым законам природы, мы обречены участвовать в непрекращающейся борьбе за существование и что впереди — неизбежное поражение, и больше ничего. Я узнал, что людьми движет бешеный эгоизм, что любовь — всего-навсего скверная шутка, которую природа шутит с людьми, чтобы добиться продолжения рода, и я решил, что, какие бы цели ни ставил себе человек, он заблуждается, ибо у него не может быть иных целей, кроме собственного удовольствия. Однажды мне случилось оказать услугу приятелю (как я мог это сделать, раз я знал, что все наши поступки эгоистичны, — об этом я не задумался), а он, желая выразить мне свою благодарность (для которой, конечно, не было оснований, поскольку моя кажущаяся доброта была строго преднамеренной), спросил, что мне подарить. Я ответил без запинки: «Основные начала» Герберта Спенсера. В общем книга эта мне понравилась. Но я презирал Спенсера за его сентиментальную веру в прогресс: мир, который я знал, катился в пропасть, и я с восторгом представлял себе, как мои отдаленные потомки, давно позабывшие искусства, науку и ремесла, будут сидеть в пещерах, кутаясь в звериные шкуры и ожидая прихода холодной вечной ночи. Я был воинствующим пессимистом. А между тем молодость брала свое — и жилось мне отнюдь не скучно. Я мечтал занять видное место в литературе. Я бросался в любое приключение, сулившее обогатить мой опыт, и читал все, что удавалось достать.
В то время я общался с группой молодых людей, казавшихся мне гораздо более одаренными, чем я сам. Я завидовал легкости, с какой они писали, рисовали и сочиняли музыку. Их умение оценивать и критиковать произведения искусства казалось мне недосягаемым. Некоторые из них умерли, не оправдав надежд, которые я на них возлагал, другие прожили ничем не приметную жизнь. Теперь-то я понимаю, что у них не было ничего, кроме творческого инстинкта молодости. В молодые годы множество людей сочиняют стихи и прозу, играют пьески на фортепиано, рисуют и пишут красками. Это своего рода игра, выход для бьющей через край энергии и не более серьезно, чем игра ребенка, строящего замок из песка. Думаю, что я лишь по собственному невежеству так восхищался талантами моих друзей. Будь я менее наивен, я бы понял, что мнения, казавшиеся мне такими оригинальными, заимствованы из вторых рук, а стихи и музыка — не столько плод живого воображения, сколько результат цепкой памяти. Но сейчас мне важно отметить другое: такая творческая легкость свойственна столь многим (если не всем), что из нее нельзя делать выводов. Вдохновением служит молодость. Одна из трагедий искусства — это великое множество людей, которые, обманувшись этой преходящей легкостью, решили посвятить творчеству всю свою жизнь. С возрастом выдумка их иссякает, и они, упустив время для приобретения более прозаической профессии, год за годом мучительно стараются выбить из своего усталого мозга ту искру, которой он уже не может дать. Счастье их, если они, затаив в душе жгучую горечь, научились зарабатывать на жизнь, подвизаясь в какой-нибудь области, смежной с искусством, например в журналистике или преподавании.