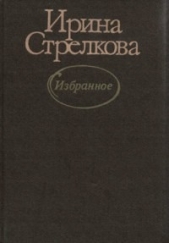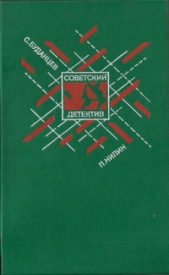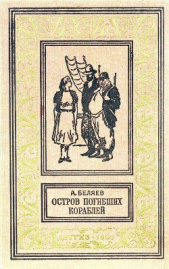Знакомое лицо (сборник)

Знакомое лицо (сборник) читать книгу онлайн
В сборник известного советского писателя Павла Нилина включены повести «Жестокость», «Испытательный срок», повесть «Только характер (Эпизоды из жизни Бурденко Николая Ниловича, хирурга)» и рассказы «Дурь», «Знакомое лицо», «Старик Завеев», опубликованные ранее в периодической печати.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот свинья, рассердился Бурденко, так и не дал досмотреть сон, показавшийся уже не таким тяжелым после того, как в нем появилась Кира.
И все-таки после сна остался на душе какой-то неприятный осадок.
Осадок этот не рассосался и после того, как Бурденко встал, умылся, спустился в нижний этаж за кипятком.
На лестнице, когда он возвращался в свою комнату, его остановил Детка.
— А я уже ищу вас, коллега,— весело сказал этот детина.— Вот что я хотел показать вам,— протянул он какую-то бумагу.
Бурденко одной рукой держал горячую, очень горячую алюминиевую кружку с кипятком, другой прикоснулся к бумаге и, близоруко щурясь, стал читать мелким почерком написанное на двух листках ученической тетради:
«Нашим товарищам-студентам Санкт-Петербургского университета нанесено тягчайшее оскорбление, глубоко возмутившее нас, студентов Томского университета. А потому:
Мы требуем, во-первых... во-вторых... в-третьих... в-чет-вертых... в-пятых...»
Бурденко поставил горячую кружку на перила лестницы и дочитал бумагу до конца.
Особенно его поразил пункт, в котором было сказано, что «мы требуем, чтобы правительство гарантировало физическую и нравственную неприкосновенность личности, то есть, чтобы каждый случай насилия над массой студентов разбирался в общественных учреждениях и чтобы было ясно, имела ли право полиция пустить в ход насилие или нет».
И дальше следовали угрозы: «если наши требования не будут удовлетворены», отказаться от посещения лекции, клиник, практических занятий и т. д.
«Удобно ли, чтобы студенты так обращались к правительству? Что это такое — требуем? Разве нельзя написать более вежливо, допустим, очень просим или даже лучше — ходатайствуем? Вежливость ведь не может повредить делу»,— хотел сказать Бурденко. Но сказал только:
— Серьезная бумага!
— Может быть, у вас, коллега, есть какие-нибудь дополнения, замечания? Это мы еще можем дописать, доработать. У нас еще есть немного времени.
— Ну что ж тут дорабатывать?..— пожал плечами Бурденко. Вынул из кармана носовой платок, чтобы обмотать ручку кружки: так будет ее лучше нести.
— Вообще-то как будто и вы не можете придраться тут ни к чему,— сказал Детка.— Я слышал вашу речь вчера. Бумага составлена, мне думается, во многом в аспекте вашей речи...
Эти слова звучали как комплимент. Но воспоминания о собственной речи были сейчас неприятны Бурденко. Однако, похоже, сию минуту затевалось что-то еще не до конца понятное, но, пожалуй, еще более неприятное, чем его речь, которую хотелось забыть.
— Ну что же,— неопределенно сказал Бурденко, будто согласившись с чем-то, и взглянул на большие круглые часы в деревянной оправе, висевшие над лестницей.— О, уже скоро девять, я опаздываю...
— Я задержу вас еще всего на одну секунду,— сказал Детка.— Вы, надеюсь, подпишете эту бумагу?
— А почему я?
— Но тут уже больше шестидесяти студентов подписались,— показал Детка, развернув веером несколько страниц.— И как вы понимаете, коллега, мы просим подписи не у каждого встречного...
Бурденко потрогал кружку. Она была уже не такая горячая.
— Не удалось попить чаю,— вздохнул он. И снова спрятал в карман носовой платок.
— Но, может быть, коллега, вас что-нибудь смущает? — спросил Детка. И толстые губы его пошевелила улыбка.— Может быть, вы, что, конечно, уважительно — боитесь репрессий?
— Не больше, чем вы! — вскипел Бурденко.— Это что,— кивнул он на бумагу,— можно подписать карандашом?
— Лучше бы чернилами,— улыбнулся Детка.— Написанное пером, как говорится, не вырубишь топором.
— Тогда пойдемте ко мне, — предложил Бурденко. И по дороге вылил в плевательницу еще не совсем остывшую воду из кружки.
В этот момент он еще едва ли мог представить себе весь размах бедствий, весь, так сказать, масштаб несчастий, которые почти немедленно постигли его.
Впрочем, Детку они, наверно, тоже постигли. И еще многих других, писавших эту сердитую бумагу и подписавших ее.
— Тут, это самое, который у вас Бурденко? — уже на следующее утро, глядя тоже в бумагу, спросил смотритель, как будто он в первый раз вошел в общежитие.
— Ну, я Бурденко. А что?
— Вот что, это самое, господин хороший,— сказал смотритель.— Велено вам, это самое, выбираться отсюдова, так как вы, это самое, исключенные из унирситета.
— Унирситет!— передразнил его Бурденко.— Служишь тут сколько лет и не можешь заучить. Уни-вер-си-тет. Повтори по буквам.
— Это вы, господин хороший, это самое, повторяйте теперь по буквам. А мне главное, чтобы вы, это самое, освободили койку и помещение. Устраивайте бунт где-нибудь, это самое, в других местах. И повторяйте хоть по буквам, хоть по цифрам...
«Все рухнуло, все рухнуло!» — бормотал про себя Бурденко, сидя в последний раз у себя на койке за изразцовой печкой. Впрочем, теперь это было уже не «у себя».
Сто рублей, которые он собирался послать матери, надо было все-таки послать. Хотя неизвестно, как он будет дальше жить. Ведь ему не будут больше выплачивать пятьсот рублей стипендии.
Это была стипендия Восточной Сибири. Товарищи иногда посмеивались над ним, говорили, что такую стипендию, пожалуй, придется отрабатывать где-нибудь в глухой тайге, где обитают в небольшом поселке десяток казаков, священник и доктор, у которых нет иных развлечений, кроме выпивки. И допиваются они в короткий срок до чертиков.
— А я не пью,— смеялся студент Бурденко.— Поэтому черти мне не угрожают.
И вот теперь оп лишился этой стипендии. Ему уже не придется ее отрабатывать. Но работать оп вынужден будет все-таки, кажется, в глухом, медвежьем углу.
— Где этот город Нижнеудинск? — искал он на карте точечку, обозначающую крошечный сибирский городок, куда ему дали направление в больницу. Может быть, его примут там фельдшером.
Выбирать место жительства, место работы в этот момент было нельзя: надо было немедленно начинать работать, зарабатывать. Деньги подходили к концу.
На бланке перевода в сто рублей в Пензу матери оп написал обычное «жив, здоров». А дяде Алексею, брату матери, священнику, отправил обстоятельное письмо с туманным объяснением причин, понудивших его оставить университет и двинуться на заработки в Нижнеудинск.
Был расчет на то, что дядя перескажет домашним это письмо и в подходящих выражениях успокоит их, объяснив, что ничего страшного еще не произошло. Николай здоров, работает, а не ходит по миру. Что же может быть лучше?
У Бурденко ни в детстве, ни в юности не было особо близких, интимных друзей, но он не чувствовал себя одиноким, дружа как бы со всеми и пи с кем в отдельности.
В позднем возрасте он даже шутил по этому поводу, сравнивал особо сердечных друзей с попутчиками, которые ведь могут вдруг сойти не на той станции — раньше, чем вы задумали, или могут свернуть в сторону, куда вы сами еще не собирались сворачивать. И вам, если это ваши в самом деле сердечные друзья,— хочешь не хочешь — придется последовать за ними.
Получилось, однако, так, что он сам раньше других сошел не на той станции. Все поехали дальше, а он неожиданно сошел, неожиданно даже для самого себя.
Правда, не все поехали дальше. Бумагу эту с нелюбезным обращением к правительству подписала не одна сотня студентов. И, стало быть, не одному Бурденко пришлось покинуть университет.
Группу зачинщиков, подлинных вожаков студенческих волнений, даже с некоторым торжеством провожали на вокзале. И потом была сочинена об этом студенческая песня с ироническим припевом:
Без крика и шума толпился народ
Вокруг дорогого вагона,
Никто не спешил с громким словом вперед,
Никто не нарушил закона.
Бурденко остался один. Может быть, впервые в жизни он почувствовал с особой остротой свое одиночество, свою неприкаянность, как он говорил потом. Неужели он больше никому не нужен, неинтересен в этом городе?..
Даже Павел Иванович Мамаев, вечный студент, еще несколько дней назад — после той злополучной речи,— так горячо дышавший ему в лицо, встретившись теперь с ним на мосту через Ушайку и потом у книжнописчебумажного магазина Макушина, не узнал его или сделал вид, что не узнал.