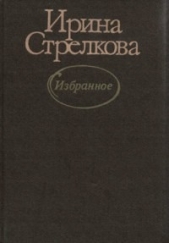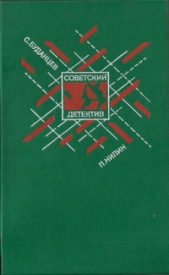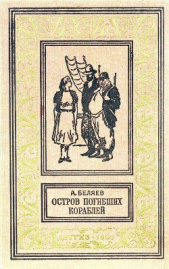Знакомое лицо (сборник)

Знакомое лицо (сборник) читать книгу онлайн
В сборник известного советского писателя Павла Нилина включены повести «Жестокость», «Испытательный срок», повесть «Только характер (Эпизоды из жизни Бурденко Николая Ниловича, хирурга)» и рассказы «Дурь», «Знакомое лицо», «Старик Завеев», опубликованные ранее в периодической печати.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Это зачем?
— Так будет скорее,— сказал Бурденко.
Профессор не спросил, что будет «так скорее».
— А, ну-ну,— только и сказал профессор. И уже от дверей крикнул: — Но вы, Нилыч, мне будете сейчас нужны!
Бурденко растопил котел и пошел в операционную, которая была уже освобождена.
— Лучше всего,— сказал он профессору,— если сразу после осмотра, кого можно, тут же купать. А то видно, что есть вшивые. Сильно чешутся. Но нужно белье...
— Белье у нас только для первоприбывших. У нас мало белья,— запричитал Орешек.— Ведь требуется по-настоящему рубашка нательная и кальсоны. А у нас не то чтобы...
— Ну, ладно, довольно плакать и рыдать,— оборвал фельдшера студент Бурденко.— Давайте сколько у вас есть белья сейчас. А грязное немедленно в стирку. Где у вас эта женщина, кажется, Пелагея?
— Хорошо,— покорно согласился Орешек.— Я скажу, чтобы выдали белье. А Пелагея только завтра будет...
— А нельзя ее вызвать сегодня? Дядя Вася вон сходит за ней,— кивнул Бурденко на усатого санитара, все ещо сидевшего у дверей, но вроде уже не так уверенно.
— Можно, пожалуй, и сегодня вызвать,— опять согласился Орешек.
Профессор начал осмотр. Над некоторыми больными он склонялся. Но большинство, оказалось, может вставать.
Большинство пожелало искупаться под горячим душем. И многие заметно повеселели.
— Удивительный народишко,— надел шапку санитар, чтобы пойти за Пелагеей.— Ведь сейчас вроде того что помирали. И, гляди, как вдруг зашевелились.
Только один арестант, густо-коричневый от врожденного, должно быть, загара, высокий, тощий, с ястребиным носом, продолжал очень громко стонать.
— На что жалуетесь, голубчик? — подошел к нему профессор.
— Карыть пали качуча. Нарыть пали,— простонал арестант, вставая, и на ногах у пего загремели кандалы.— Качуча...
— Это татарин. Он вчера к нам поступил,— сказал Орешек.— Можно позвать переводчика. У нас тут есть некто в первом корпусе. Сейчас, — заторопился он.
Привели татарина-арестанта, по доброй воле выступающего изредка в качестве переводчика. Он был одет в такие же, как у всех арестантов, грубой выделки холщовые штаны и рубаху, и в такую же длинную, из очень шершавой шерсти куртку, но непривлекательная эта одежда выглядела на нем почти щеголевато, точно хороший портной специально пригонял ее ему по кости. И круглую, без козырька, как у всех арестантов, тряпичную шапку оп носил чуть набекрень, что придавало ему уж совсем франтовый вид.
— Который? — спросил он, входя и уже зная, зачем его вызвали.— Какой вопрос?
— Надо спросить его, на что он жалуется?
Переводчик отвел своего «клиента» к зарешеченному окну, как бы желая его получше рассмотреть, поговорил с ним минуты три и сделал заключение:
— Он сам из Кавказ. Зарезал своего жену. Он не владеет татарского языка. Он хорошо говорит только по русскому языку.
— Что же он говорит?
— Он говорит, что у него очень болит гырудь, самое сердце. И еще он хочет попить очень немножко чай. Это как? Не просто чай, а зеленый чай.
— А какава не хотишь?
Этот вопрос раздался из-под груды тряпья в углу, где лежал, можно было подумать, мертвый. Из-под тряпья показалась стариковская, наполовину обритая голова с заблестевшими, почти стеклянными глазами, устремленными на человека, зарезавшего свою жену и сейчас желавшего попить чаю. И не просто чаю, а зеленого.
Это развеселило почти всех больных.
Впрочем, после осмотра и купания оказалось, что усатый санитар дядя Вася был прав: не так уж много подлинно больных среди арестантов. Больше, однако, людей, истомленных тюрьмой и хотевших, чтобы на них «обратили внимание», как выражался дядя Вася. Но были однако и тяжелобольные.
В операционной зажгли электрические лампы. Не во многих домах Сибири тогда горело электричество.
Бурденко был обижен, что в то время, когда он проводил больных через душ, профессор не только сам делал операции, но и поручил Савичеву и Семенову под его, профессора, наблюдением, вырезать две липомы.
Бурденко не скрывал своей обиды. Он никогда не мог этого скрыть. И когда Орешек сказал: «Ну вот, белье кончилось. Не знаю, во что будем теперь обряжать первоприбывших»,— Бурденко вдруг почти закричал на него:
— Да будет вам рыдать и плакать!
— Нилыч, подойдите, пожалуйста, ко мне,— позвал профессор, моя после операции руки под мраморным умывальником.— Что с вами, Нилыч?
— Что, разве я делаю что-нибудь неправильно? — спросил Бурденко.
— Все правильно,— сказал профессор.— Но нестерпимо грубо. Это же все-таки исполняющий обязанности врача. Вообще я сегодня не узнаю вас.
— ...Мне было трудно объяснить любимому профессору, что этой грубостью я, может быть, раньше всего взбадривал тогда самого себя,— вспоминал профессор Бурденко.— Это было тогда у меня что-то вроде защитной формы против чего-то грозившего мне. Чего точно, я еще не знал. Но я ждал несчастья и нервничал.
И ВДРУГ ВСЕ РУХНУЛО
— ...Наверно, немало людей всякое сильное событие переживают дважды, трижды: сперва наяву, затем во сне. А я во сне переживаю все много драматичнее,— говорил профессор Бурденко.— Так с детства и до старости. Я одно время даже записывал сны. Хотелось проследить, в какой степени они отражают действительность. Впрочем, проследить это не так легко. И вообще все не так просто.
Всю ночь после возвращения из тюремной больницы студенту Бурденко снилась тюрьма, в которой, собственно, он ведь не был. И больше того, он увидел во сне самого себя, посаженным в тюрьму, как в клетку, окруженную со всех сторон, снизу доверху, ржавыми чугунными решетками. Сперва он надеялся расшатать их, согнуть, выломать, высадить плечом. Но ничего не получалось. Тогда в крайнем возмущении, ослабевший, он стал кричать, ругаться: ведь его посадили без всякой вины! Неужели человека надо загонять в тюрьму за то, что он прочел две-три запретных книжки? И, во-первых, он не знал, что они запретные...
«Врешь, врешь! Зачем же ты врешь? Ты все знал. А теперь, вот видишь, испугался. А ведь еще когда было говорено, что от сумы да от тюрьмы не отбрешешься. И загадывать наперед ничего нельзя».
Бурденко удивился, узнав во сне голос дедушки. Это дедушка, оказывается, вместо того чтобы хлопотать, выручать его, упрекал вдруг. Но сам не показывался. Голос дедушки звучал откуда-то из-за высокой бревенчатой стены. И этот голос, наверно, слышали тюремщики, которых, однако, тоже было не видно.
Видно было издали только женщину, которая бодро шла, постукивая каблучками по каменным плитам тюремного двора.
Бурденко старался из-за решетки разглядеть эту женщину, как будто хорошо знакомую. Несмотря на зиму, она была в белой панамке, чуть надвинутой на глаза, и в длинных, почти по локоть, вязаных перчатках.
Наконец Бурденко узнал: это Кира. Он отвернулся, ушел в самый угол камеры-клетки. Ему не хотелось сейчас видеть Киру.
И особенно не хотелось, чтобы она видела, в каком оп очутился положении.
Но она приблизилась к нему. Углом глаза он все-таки видел, как она отогнула край своей панамки, вглядывалась в него. И, немного помедлив, о чем-то очень быстро заговорила. Бурденко хотел услышать, что же такое она говорила, но не все ему удалось услышать. Как странно, она, кажется, говорила по-французски. Бурденко сердился: это она, должно быть, нарочно говорила по французски, узнав, что это самое слабое его место — французский язык. Потом она перешла на русский: «Кого бы я когда ни целовала, но все равно я навсегда верна вам, хотя вы нестерпимо грубы». «Позвольте, позвольте, но мы ведь с вами даже незнакомы»,— стараясь не обижаться, стараясь быть деликатным, начал Бурденко. Но его кто-то сзади окликнул.
— Извините, коллега,— это уже наяву произнес огромный детина, студент четвертого курса, прозванный, может быть, за круглое, почти детское личико Деткой.— Я был уверен, что вы уже встали,— восьмой час. Ну, ладно, я сперва зайду к В-ву, потом к вам. Одевайтесь.