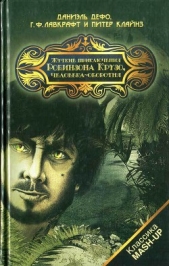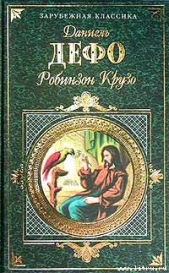Тропик любви
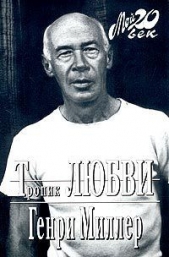
Тропик любви читать книгу онлайн
Книга Генри Миллера «Тропик Рака» в свое время буквально взорвала общественную мораль обоих полушарий Земли. Герой книги, в котором очевидно прослеживалась личность самого автора, «выдал» такую череду эротических откровений, да еще изложенных таким сочным языком, что не один читатель задумался над полноценностью своего сексуального бытия… Прошли годы. И поклонники творчества писателя узнали нового Миллера — вдумчивого, почти целомудренного, глубокого философа. Разумеется, в мемуарах он не обошел стороной «бедовую жизнь» в Париже, но рассказал и о том, как учился у великих французских писателей и художников, изложил свои мысли о мировой литературе и искусстве. Но тут же, рядом — остроумные, лишенные «запретных тем» беседы с новыми друзьями: бродягами, наркоманами, забулдыгами, проститутками…
Перевод выполнен по первому изданию: Big Sur and the Oranges of Hieronimus Bosch. New York, New Directions, 1957.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не знаю, что поразило меня больше — история о лимонных рощах, раскинувшихся по курсу парохода, или вид самого Пороса, когда я вдруг сообразил, что мы плывем прямо по городским улицам. Если есть какой-то сон, который я люблю больше других, то это сон, в котором я плыву по земле. Прибытие в Порос создает полную иллюзию сна. Земля неожиданно обступает судно со всех сторон, и оно проскальзывает в узкий проход, из которого как будто нет выхода. Мужчины и женщины Пороса свешиваются из окон — прямо у тебя над головой. Их носы дружелюбно дышат тебе в макушку, как если б ты сидел в кресле парикмахера. Народ, лениво разгуливающий по набережной, движется с той же скоростью, что и пароход; захочется — так они спокойно могут его обогнать. Остров разворачивается, открывая кубистские панорамы: то сплошь стены и окна, то скалы и козы, то застывшие в полете деревья и кусты и так далее. Вон там, где берег изгибается, как хлыст, стоят рощи диких лимонных деревьев, и весною молодежь и старики сходят там с ума от аромата сока и цветов. Ты входишь в поросскую гавань, покачиваясь вместе с палубой, испытывая головокружение, — благодушный идиот, оказавшийся в мире мачт и рыбацких сетей, постигаемом только художником, который лишь один он способен оживить, потому что, как и ты, когда он впервые увидел этот мир, он был пьян, и счастлив, и беспечен. Медленно проплывая улицами Пороса, вновь переживаешь радость, какую испытывал, проходя сквозь шейку матки. Эта радость хранится в тебе слишком глубоко, чтобы ее помнить. Она сродни восторгу оцепенелого идиота, из которого рождаются легенды наподобие легенды о рождении острова в том месте, где затонул корабль. Пароход, узкий пролив, вращающиеся стены, мягкая мелкая дрожь корабельного днища, слепящий свет, зеленый змеиный изгиб береговой линии, бороды обитателей, высунувшихся из окон, едва не касающиеся твоей головы, — все это и возбужденное дыхание дружелюбия, симпатии, готовности водительствовать тобой, окружающее и завораживающее, пока не пролетаешь насквозь, как сгорающая звезда, и оплавленные осколки твоего сердца разлетаются на большом пространстве. Я пишу это примерно в тот же час, несколько месяцев спустя. Во всяком случае, так показывают часы и календарь. На самом же деле тысячелетья миновали с той поры, как я проплыл тем узким проливом. Такое никогда не повторится. В другое время мне стало бы грустно от подобной мысли, но сейчас мне не грустно. Хотя сейчас самое время грустить: все, что я предчувствовал за последние десять лет, сбывается. Наступил один из мрачнейших моментов в истории человечества. Никакого признака надежды на горизонте. В мире идет кровопролитная бойня. Но повторяю — я не испытываю грусти. Пусть мир омоется кровью — я останусь верен Поросу. Могут пройти миллионы лет, я могу возвращаться снова и снова на ту планету или на другую человеком, дьяволом, архангелом (все равно, как, куда, кем или когда), но мои ноги никогда не покинут тот корабль, глаза никогда не устанут смотреть на ту картину, мои друзья никогда не исчезнут. Тот момент будет длиться вечно, переживет мировые войны, останется и тогда, когда исчезнет сама жизнь на планете Земля. Если когда-нибудь я обрету высшее блаженство, о котором говорят буддисты, если когда-нибудь буду поставлен перед выбором достигнуть нирваны или остаться в круге жизни, чтобы оберегать и вести тех, кто придет после меня, то, говорю заранее, я предпочитаю остаться, предпочитаю парить, подобно доброму духу, над крышами Пороса и взирать с высоты на путешественника со спокойной и ободряющей улыбкой. Я смогу увидеть здесь весь род человеческий, устремляющийся сквозь бутылочное горлышко к выходу в мир света и красоты. И возможно, они прибудут, сойдут на берег, остановятся отдохнуть в спокойствии и мире. И в радостный день я впущу спешащие толпы, проведу узким проливом, дальше, дальше, еще несколько миль — к Эпидавру, в царство безмятежности, всемирный центр исцеляющего искусства.
Прошло несколько дней, прежде чем я увидел собственными глазами спокойное, исцеляющее сияние Эпидавра. В этот промежуток я едва не погиб, но об этом чуть погодя. Конечным пунктом нашего путешествия была Гидра, где нас ждали Гика с женой. Гидра — скалистый остров, почти без растительности, и его население, сплошь моряки, быстро сокращается. Аккуратный и чистый городок амфитеатром расположился вокруг гавани. Преобладают два цвета — синий и белый, и белый освежается ежедневно, до булыжника мостовой. Дома расположены так, что еще больше напоминают кубистскую живопись, чем Порос. Картина эстетически безупречная — полное воплощение той совершенной анархии, которая заменяет собой формальную композицию, созданную воображением, поскольку включает ее в себя и идет дальше. Эта чистота, это дикое и голое совершенство Гидры в большой мере обязано духу людей, когда-то преобладавших на острове. На протяжении веков мужчины с Гидры были отважными морскими разбойниками: остров давал одних героев и освободителей. Самые скромные были адмиралами в душе, если не в действительности. Чтобы перечислить подвиги мужчин с Гидры, пришлось бы написать целую книгу об этом племени безумцев; это значило бы огненными буквами начертать в небесах: ОТВАГА.
Гидра — это скала, торчащая из моря, как гигантская краюха окаменевшего хлеба. Хлеба, обращенного в камень, который художник получает в награду за свои труды, когда земля обетованная впервые предстает его взору. После света матки — испытание островами, из которого должна родиться искра, что сможет зажечь мир. Я пишу картину широкими, быстрыми мазками, потому что в Греции, перемещаясь с места на место, открываешь для себя волнующую, роковую драму народа на его круговом пути от рая к раю. Каждая остановка — это веха на пути, проложенном богами. Это места для отдыха, молитвы, глубокого размышления, поступка, жертвоприношения, преображения. Ни на одном пункте этого пути нет меты FINIS. Самые скалы, а нигде на земле Бог так не щедр на них, как в Греции, — это символ жизни вечной. В Греции скалы красноречиво свидетельствуют: человек может умереть, но скалы никогда. В месте, подобном Гидре, например, знают, что, когда человек умирает, он становится частью родной скалы. Но эта скала — живая скала, божественная волна энергии, зависшая во времени и пространстве долгой или краткой паузой в бесконечно звучащей мелодии. Искусный каллиграф вписал Гидру в виде знака паузы в партитуру сотворения мира. Это одна из тех божественных пауз, которые позволяют музыканту, возобновляя мелодию, продолжать ее в совершенно ином направлении. В этой точке можно выбросить компас. Нужен ли компас, когда движешься к центру сотворения? Прикоснувшись к этой скале, я совершенно потерял чувство земной ориентации. То, что происходило со мной с этого момента, походило на движение без направления. Оно больше не имело цели — я стал одно с Путем. Отныне каждая остановка отмечала мое перемещение в новую точку на сетке духовной широты и долготы. Микены были не более великими, чем Тиринф, Эпидавр не прекрасней Микен: каждый из них имел свои координаты, но я потерял буссоль, чтобы их измерить. Я могу привести лишь одну аналогию, чтобы объяснить природу того озаряющего путешествия, которое началось в Поросе и закончилось месяца два спустя в Триполисе. Должен отослать читателя к вознесению Серафиты, каким его увидели ее верные последователи. Она уходила в сияние. Землю озарил ее внутренний свет. В Микенах я попирал прах ослепительных мертвецов; в Эпидавре ощущал тишину столь плотную, что на какую-то долю секунды услышал, как бьется огромное сердце мира, и понял значение боли и скорби; в Тиринфе стоял в тени циклопа и корчился от пылающей боли в том внутреннем оке, которое ныне стало слезной железой; возле Аргоса вся равнина была в огненном тумане, в котором я увидел призраки наших американских индейцев и молча приветствовал их. Я бродил в одиночестве, и мои ступни тонули в свечении, исходящем от земли. Я в Коринфе: розовый свет, солнце сражается с луной, земля медленно поворачивается вместе со своими роскошными руинами, крутится в струях света, как мельничное колесо, отражающееся в тихом пруду. Я в Арахове: орел срывается с гнезда и повисает над кипящим котлом земли, потрясенный сверкающим разноцветьем, которое облекает бурлящую бездну. Я в Леонидионе: закат, за тяжелой пеленой болотных испарений неясно чернеют врата Ада, куда устремляются на отдых, а может, для молитвы тени летучих мышей, и змей, и ящериц. В каждом из этих мест я вскрываю новую жилу познания — как рудокоп, зарывающийся все глубже в землю, приближающийся к сердцу еще не погасшей звезды. Свет уже не солнечный и не лунный; это звездный свет планеты, которой человек дал жизнь. Земля жива до самых своих сокровенных глубин; в центре она — солнце в образе распятого человека. В потаенных глубинах солнце истекает кровью на своем кресте. Солнце — это человек, пытающийся выйти к другому свету. От света к свету, от Голгофы к Голгофе. Песня земли…